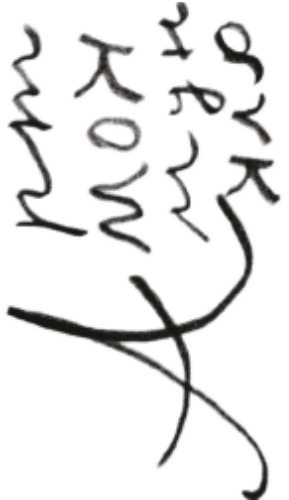«Если среди добрых людей живёшь – это как-то впитываешь и по-другому не можешь уже»
Рассказчица: Галина Константиновна Горчакова.
Собеседница: Екатерина Ойнас.
Дата интервью: 21 октября 2024 года.
Галина Константиновна, всех наших гостей мы просим вначале полностью представиться.
Галина Константиновна Горчакова. Это творческий псевдоним, а настоящая фамилия по паспорту Викторович. Меня город знает по псевдониму, по фамилии почти никто, только самые близкие люди.
Традиционно мы начинаем с самых ранних ваших лет, разговариваем о вашей жизни, о вашей биографии, о городе Коломне, в котором вы сейчас и уже давно живёте. Может быть, начнём с того, где и когда вы родились?
Я родилась в феврале 1950 года в городе Ленинграде. Но в паспорте паспортистка, она же умнее меня, написала: город Санкт-Петербург. При этом я задала ей вопрос: «Я там до Первой мировой войны, что ли, родилась, когда был Санкт-Петербург? Или уже после 1990 года, когда опять стал Петербург?» Она посмотрела на меня, подумала: «Учёная больно», – и написала: Санкт-Петербург.
Так это было при смене паспорта?
При смене паспорта, да.
У них, наверное, протокол такой, раз название города поменялось…
Ну, я своё мнение высказала, а она уж как хочет. Так что вот, Санкт-Петербург. И до сих пор, поскольку я ленинградского рождения, я называю город Ленинградом. У меня ассоциации с фамилией Ленин нет. У меня почему-то всегда это воспринималось по фонетике: Ленинград – виноград, такого типа. Потом это город, который и оставил в моей жизни много воспоминаний, и много начал мне дал. Но, правда, меня родители увезли, когда мне было девять лет.
То есть до девяти лет вы жили в Ленинграде?
Да. Мои родители, они же оба нижегородские, или горьковские тогда. И после окончания войны их по трудовому, по-моему, набору военкоматскому, направили на восстановление Ленинграда. Вот там-то они и познакомились. Познакомились, создали семью, я родилась, и первое место нашей прописки или местожительства (сначала-то они жили в общежитии) – это знаменитое место – Поклонная гора, не московская – ленинградская Поклонная гора. Это рядом с военным аэродромом Сосновка. Этот аэродром знаменит тем, что туда в 1943 году доставили партитуру Седьмой симфонии «Ленинградской» Шостаковича. Именно на этот аэродром. Ну и, естественно, аэродром – это взлётные и посадочные полосы, большущий бетонный забор. И при этом аэродроме посёлок, состоящий из бараков. Бараков там было прилично, может быть, двенадцать, может быть, даже больше.
Как раз послевоенного времени бараки-то?
Нет, военного. Там жили лётчики и аэродромная обслуга. После войны всё это дело, конечно, ликвидировалось, все выехали, туда заселили тех людей, которые приехали Ленинград восстанавливать. Причём семейных. Ну, что такое барак, не надо рассказывать?
Может быть, расскажете, как он выглядел?
Это длинное такое, одноэтажное строение типа сарая. И каждый там имел, по-моему, по комнате. Во всяком случае, у нас была комната. Отапливалось всё это голландскими печами. Голландская печь – это круглая такая печка, обитая оцинкованными, что ли, полосами.
Соответственно, туалеты – это всё «на этаже»?
Вот это не помню, потому что была очень маленькая. И был у меня собственный горшок, который стоял за голландской печью в уголочке.
Неудобств в этом смысле не испытывали?
Нет, я не испытывала. Как родители устраивались, не знаю. Но там, конечно, были никакие условия. Я помню прачечную, потому что она меня потрясла в своё время. Вот если бы я знала тогда, что такое ад, я бы, наверное, именно так его и представляла. Это отдельно стоящая избушка. Однажды мама пошла стирать, и я туда заглянула. Ой! Темно. Пар. Ничего не видно. Вода льётся со всех сторон и под ногами. Женщины в резиновых сапогах, одетые в фартуки клеёнчатые… Какие-то лохани. И всё это дело вручную! Никаких машин тогда не было. В общем, это было ужасно.
То есть каждый со своим корытцем приходит?
Нет, корытца тамошние. Со своим бельём и со своими… хозяйственное мыло, по-моему, тогда было, порошков тоже ещё не было.
Это где-то рядышком с бараком?
Да, в этом самом барачном посёлке. Это вот самое сильное впечатление. Но мы жили очень хорошо. Вот коммуналка, да? Вроде бы коммуналка, барак, много народу. Может быть, родители и помнят, какие были ссоры или претензии друг к другу высказывали люди. Но я этого ничего не помню. Я знаю, что у нас сосед был замечательный, дядя Миша. Тогда песня была модная: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» Слышали?
Да, конечно: «…полная задора и огня. Самая нелепая ошибка – то, что ты уходишь от меня».
Я почему-то считала, что это про дядю Мишу песня и есть! Он был очень добрый человек, видимо, детей любил. А ещё у него был телевизор КВН. Если вы изучали эти времена, как тут у вас, то знаете, что это такое, да? Это такой ящик-прибор и маленькое-маленькое такое окошечко экрана. Мы совсем недавно были в городе Гагарине, и там в музее первого полёта такой стоит. Это прям был привет из детства. А чтобы можно было в маленьком окошечке что-нибудь разглядеть, стояла огромная такая линза. И все соседи, конечно, сбегались к дяде Мише. Тогда, по-моему, детских передач не было, а может, было, но я-то не очень интересовалась этим делом – мне было интересно просто посмотреть. Помню ещё случай, когда у одного из наших многочисленных соседей умерла жена. И весь барак ходил к нему, утешал, похороны организовывал. Он очень переживал, плакал. Меня это так потрясло: мужчина плачет!.. А больше никаких впечатлений… Друзей у меня было много. Мы очень хорошо там жили. Но в основном девчонки, с мальчишками мы не водились. А потом родителям предоставили квартиру, даже не квартиру, комнату – опять коммуналка – на проспекте Энгельса, угол Сердобольской улицы, в Ленинграде. Это уже не Сосновка. Сейчас-то Сосновка уже в границах Ленинграда, а тогда она была как пригород, что ли. И вот проспект Энгельса, угол Средобольской улицы, новый дом, построенный ещё до того, как Хрущёв сказал: «Хватит вам архитектурных излишеств тут, деньги тратить на них. Не будет никаких излишеств. Вот будет крыша, вот будут стены – и всё». Там были пандусы, первого этажа окна выходили на пандус, отстоящий от земли на метр-то точно, может, метр двадцать, метр пятьдесят, который был отделан как раз архитектурными излишествами и балясинами.
То есть так называемый сталинский ампир?
Да, сталинский ампир. С балясинами и львиными мордами – такие маскароны были на этом пандусе. Очень нам это всё нравилось! Дом у нас до какого-то этажа напоминал шоколадку с квадратиками такими, и такого же цвета шоколадного. Очень мы его любили. Он был огромный, загибался буквой «П». Там детворы, конечно, было полно. А вселили нас в обычную квартиру, она строилась как квартира для одной семьи, а туда вселили три семьи.
Это какой год был?
Это был 1957-й, наверное. Сразу, конечно, парадный вход… Ну, знаете, в Ленинграде парадное называется… В общем, все парадные закрыли сразу – такая пролетарская привычка. И открыли только чёрный ход со двора (но там был лифт!), и никогда этот парадный ход не был открыт. У нас была средней величины комната. В большой комнате жила многодетная семья. Я не знаю, сколько там было детей, трое, пятеро, может быть. Они гоняли по огромной прихожей на велосипедах, дрались и всё такое прочее, поэтому я от них в стороночке держалась. А в самой маленькой комнате жили бабушка и дедушка и их дочь. Сколько было лет дочери? Мне казалось, она взрослая. А бабушка и дедушка, они были, я не знаю, может, сорокалетние. Мне-то казалось, что они уже бабушка и дедушка. Это были замечательные люди. Дедушка был на фронте, а бабушка пережила блокаду. И вот она рассказывала, не мне, конечно, а родителям, как однажды на улице за ней гнались. И она решила, что её хотели съесть. Ну, был такой каннибализм в блокаду в Ленинграде… Вот с этими людьми добрыми, с бабушкой и дедушкой, потом родители долго переписывались…
Там было всё, даже мусоропровод, даже газовый счётчик на кухне. Всё было очень хорошо. Ну, лифт, понятно. Но в Ленинграде климат не очень был хороший, а родился брат, который сразу же заболел, и врачи сказали: «Или он у вас умирает, или вы уезжаете в другой город, где лучше климат». Решили возвращаться в Горький. Отец своеобразный был человек, он решил вот эту нашу благоустроенную комнатку в малонаселённой коммуналке поменять на какое-то жильё, которое было в историческом городе. В Горьком. И поменял. Бывали там? Знаете улицу Рождественскую (Маяковского раньше)?
Да, конечно.
Вот на Маяковского мы как раз и переехали. Там стоит самый длинный по фасаду дом – Блиновская гостиница, Блиновский пассаж. Такой громадный дом. У него центральный вход, один коридор и другой коридор. Вот такая коммуналка. Я думаю, что редко кому в такой огромной коммуналке доводилось жить. Там было много военных моряков, другие военные были. И у всех по одной, по две комнаты: идёшь по гостиничному коридору, направо-налево номера. Ближайшие соседи тоже были очень хорошие, мы с ними дружили. Две семьи только были такие… Одна очень простая семья, он регулярно напивался и бегал за своей женой по всему длинному коридору, один раз даже с топором. Ну, его, конечно, всей коммуналкой успокаивали, увещевали. Фамилия у них была Горбенко. И ещё одна была там тётя такая, офицерская жена, у неё муж был военный моряк, но, видимо, комплексовала она, что ли. Когда люди вредничают, не хотят жить мирно со своими соседями, мне кажется, они какие-то неудачники по жизни. Чего ей было не так? Может быть, эта вот стометровка наша не нравилась, а хотелось отдельной квартиры. Я её понимаю, всем хотелось, но никто же гадости друг другу не делал. Она делала. Вообще, она была такая скандалистка. Ссоры устраивала, крикливая такая была. Офицерская жена, муж военный моряк – это же всегда была военная аристократия. И если она не поскандалит день, это значит, он впустую прожит.
«Я несколько лет опомниться не могла от радости»
А как вы пережили вот этот переезд? Вам не хотелось уезжать?
Я очень плохо пережила. Школа была… где мост Канавинский, через Оку, в конце улицы, знаете?
Я была только однажды в Нижнем. Не очень хорошо помню.
Его, кстати, всегда называли Нижний. Мои бабушка и дедушка деревенские всегда говорили: Нижний.
Я плохо пережила, потому что я вообще, видимо, в таком возрасте плохо переносила всякие изменения в своей судьбе. Меня посреди учебного года ведь привезли, где-то зимой, я помню. Посадили во второй класс на первую парту. Меня нельзя было трогать, вообще нельзя было трогать! Ни вызывать к доске, ни говорить мне ничего… Мне, например, говорили: «Ну, Галя, давай читай», – и я сразу в слёзы. То есть у меня такая была…
Стрессовое состояние…
Стрессовое, да, очень долго – меня целую четверть не спрашивали. Я просто приходила в школу, сидела, делала всё потихонечку. Я вообще человек-то ответственный, училась хорошо.
Учительница с пониманием была?
С пониманием, да.
Вы её помните?
Нет. Вот ту учительницу, первую, которая в Ленинграде, помню. Эту не помню. Хотя я в этой школе училась восемь лет, ну, меньше… в общем, восьмилетка она была.
Да, так про эту тётю скандальную, про которую я хотела иллюстрацию маленькую рассказать. Ведь ванн не было, только был туалет, но, сами понимаете, с холодной водой. Кстати, вот эту стометровку сами убирали, не было никаких уборщиков. И я маме всегда помогала. И некоторые женщины так умилялись, говорили: «Ой, маленькая хозяйка большого дома!» Что я там делала, я тоже не помню. Может, шваброй возила.
Да, многие рассказывают о том, что было дежурство, у вас, наверное, тоже. Может быть, делали всё по очереди?
По очереди, да. И вот эти 100 метров, плюс мужской туалет, плюс женский туалет, а там несколько посадочных мест на такую кучу народа. И готовили на примусах, на керосинках. Столы стояли в коридоре. Ванны никакой не было, холодная вода – грели, стирать-то как? Если на Поклонной горе, на аэродроме Сосновка, была прачечная, то здесь никаких прачечных не было. В баню мы ходили тоже на этой улице недалеко, со своими тазами… Грели воду. Корыто было такое, стиральная доска, она у вас, наверное, есть. Такая ребристая.
То есть прямо в коридоре стирали?
Прямо в коридоре. Тут же и готовили, тут же и стирали. А рядом с нами была дверь на балкон. Балкон был до такой степени засижен голубями, что туда никто никогда не ходил. Но для проветривания открывали. И вот эта тётя, когда видела, что моя мама стирает, раскрывала балконную дверь настежь – чтобы не пахло мылом, стиркой и всё такое прочее. А что это зима и что мама заболеть может – это её совершенно не заботило… Мама никогда с ней не связывалась. Она просто уходила, одевалась потеплее, несколько кофт под фартук, и всё, и продолжала. То есть та специально набивалась на скандал.
Вам, наверное, обидно было всё это наблюдать? Вы были свидетелем?
А меня не посвящали! Мама потом рассказывала.
Один раз у нас там был пожар. У нас жил военный врач со своей военной врачихой, то есть они были оба военнослужащими. И, наверное, они были ещё не в запасе, потому что ходили в форме. А он был алкоголик запойный, и когда у него наступал этот период, жена как врач всё понимала. Она оставляла его дома, ставила ему бутылку водки на тумбочку и уходила. Ну, он «лечился» как мог и курил при этом. И вот однажды он, будучи в кондиции, ещё и курил. Как это всегда бывает, папироску уронил, папироска прожгла матрас и всё остальное прочее. Повалил дым, соседи вызвали пожарных. Пожарные приехали. Он обгорел, видимо. Я в коридоре была, когда его тащили на носилках. Он был такой грузный, большой и кричал очень сильно – обгорел. Видимо, начальное обезболивание алкогольное перестало действовать, и он очень кричал.
Вот такая у нас была коммуналка. Но это была не последняя коммуналка в моей жизни. А чтобы вас сориентировать, Блиновский пассаж, наш дом, был напротив речного вокзала. Речной вокзал как раз при нас и строили. Будете в Нижнем, приходите на Рождественскую, к речному вокзалу, и напротив как раз будет Блиновский пассаж. Я, когда там бываю, свои два окна на третьем этаже нахожу: вон там мы жили. Сейчас никто там не живёт, по-моему, там одни офисы, всякие конторы. Родители работали вместе в научно-исследовательском институте радиофизическом. И для сотрудников построили дом на площади Горького. Будете на площади Горького, встаньте лицом к Дому связи – и направо будет как раз наш дом. Это новостройка 1960-х, наверное, годов.
Это уже хрущёвка?
Типичная хрущёвка, с проходной комнатой. Но мама была счастлива, потому что вода, газовая колонка, лифт – всё есть. И те огромные 100-метровые площади убирать не надо. Она говорила: «Я несколько лет опомниться не могла от радости». Ну, это не последняя была моя квартира.
А вы как восприняли этот переезд?
У меня друзья там остались. Но дело в том, что мы окончили восьмилетку, мне нужно было всё равно куда-то два года доучиваться. И получилось так, что нам дали квартиру недалеко от той школы, куда я устроилась. Я не знаю, как это получилось – случайно или, может быть, родители ожидали, говорили: «Вот перейди в эту школу». Мы ходили пешком, у нас очень хороший был класс, мы друг друга ждали утречком, идём все вместе, хором, в школу. Как-то однажды мы со школьной подругой пришли в школу. Летом школа уже не работала, а нам так хотелось посмотреть наш класс и физический кабинет. Мы сказали: «Мы выпускники 1967-го года, пустите нас посмотреть». Нас пустили. Ну, сами понимаете, какое-то такое ностальгическое чувство.
Наверное, поменялась школа. Это уже в наши дни просились-то?
Это было, может, в 90-е, может, в 80-е. А потом нужно было поступать в высшее учебное заведение.
«Мама в такой шляпе с вуалькой – красавица необыкновенная!»
Давайте всё-таки о маме и о папе расскажем.
Они оба крестьяне. Ой, хотите, я вам сейчас фотографию покажу?.. Вот. По моде того времени одеты. Крестьяне. Папа – государевы казённые крестьяне его предки. Мама – помещичья крестьянка. Вот они в Ленинграде. Я не знаю, первый год их жизни в Ленинграде, или, может, я была маленькая уже.
Сколько им было лет, когда они в Ленинграде оказались?
В 1945-м их, к концу года, отправили. Отец с 1922-го, он не воевал, у него была бронь – он работал на эвакуированном из Ленинграда моторном заводе, командовал там бригадой девчонок. Он был инструменталист. Дело в том, что завод перевезли, а инструментальной базы не было, и пришлось создавать инструментальный цех, который инструменты и создавал.
У него было образование соответствующее?
У него была школа ФЗУ – фабрично-заводское училище. Всё приходилось на собственном опыте постигать, война идёт, прохлаждаться некогда. Требовали. И вот у него девчонки были 16, 17, 18 лет. Он был «сорок девок, один я» – бригадир. Было ему лет 18 или 19 в ту пору. Находился этот завод моторный ленинградский на территории Горьковского автозавода. А маму мою из деревни взяли в 13 или в 14 лет по трудмобилизации. В общем, автозавод бомбили, и разбомбленные строения нужно было, во-первых, очищать от осколков, обломков, а во-вторых, таскать кирпичи и раствор, чтобы строители ремонтировали.
То есть она была подростком практически?
Да, лет 14-15 ей было. Это трудмобилизация, хочу – не хочу, не спрашивали. А у отца была бронь, его не взяли, потому что его инструментальное производство было очень важным для этого самого моторного завода, он к самолётам ЛаГГ, истребителям, делал моторы. Считалось, что это очень важно и нужно, так он на войну и не попал. А если бы попал, кто знает, может, и меня бы не было. Они работали в одном месте, но территория Горьковского автозавода очень большая, и поэтому они там даже не встречались. Жили в общежитиях, в мужском и в женском. А встретились вот именно в Ленинграде. Он-то как раз там и работал, на этом, как же этот завод назывался, «Красная Звезда», что ли, не помню. А она в строительной какой-то конторе, или ремстройуправлении, как-то так называлось. Там они и познакомились.
То есть им было по 23, по 24?
Когда они переехали, им было меньше, потому что маме было 24, когда я родилась в 1950 году.
Мама намного младше?
На пять лет. Папа с 1922-го, она с 1927-го. Вот такие они. Молодёжь, понятное дело! Ленинград – это же одна из столиц, можно сказать, наших.
То есть они вполне вписались, мне кажется.
Приодеться-то хотелось! Ещё фотография, где мама в такой шляпе с вуалькой. Такая красавица необыкновенная! Я ту фотографию просто не нашла. И когда она ещё жила в Горьком, в Нижнем Новгороде тогда уже, к ней пришли к очередному юбилею Победы из соцзащиты или откуда-то, задумали они сделать уличный стенд, где поместить фотографии ветеранов (они оба у меня ветераны войны): юные фотографии ветеранов войны и нынешние. И вот ту фотографию, где она с вуалькой, отобрали. Она там как актриса!
Мама фактически не смогла образование получить?
Она, по-моему, окончила какие-то курсы или кто-то её там учил, это я хорошенько не знаю. Отец – ФЗУ, а потом большая такая практическая школа. Ему война помешала образование получить. Он же был очень, как говорится, рукастый, то есть рукодельничать умел. Он, например, писал картины маслом. Он мог сделать какие-то вещи… Вот ножи он любил делать с рукоятками интересными такими и всем дарить. Починить любое – замок, ещё там что-то. Он такой смышлёный парень. А потом, когда они поступили оба работать в научно-исследовательский радиофизический институт, это, можно сказать, оборонка: радиофизика, радиотелескопы у них были…
То есть это была служба?
Нет, институт был гражданский, но занимался он военной темой – оборудование для космических кораблей, вот это всё. Мама-то работала там в бухгалтерии, а отец был начальником экспериментальных мастерских. То есть чего-то там учёные изобретут и чертежи, сумеют – не сумеют, картинку нарисуют и к Константину Михайловичу идут: «Константин Михайлович, нам нужно сделать вот такой прибор или такой инструмент». А Константин Михайлович инструментами занимался всю войну, конечно, он это делать умел! И подбирали они людей тоже таких же смышлёных и рукодельных. И много они эксклюзивных приборов сделали, то есть не серийных, опытных, которые учёным помогали. В этом институте, радиофизики знают, Грехова знаменитая была – академик, член Российской академии наук. Другие, фамилии сейчас я не вспомню, надо было мне, может быть, как-то немножечко освежить в памяти. Нет, конечно, сейчас никого. И родителей-то нет, а Грехова тогда уже была не первой молодости. Вот такие мои родители.
Какие они были по характеру?
Отец был очень… Как бы это сказать? Ну, он цену себе знал. И хвастаться любил! Так он любил прихвастнуть… А мама? Мама любила порядок. Это я у неё наследовала. Я тоже люблю порядок. Мама тоже была рукодельница – шить, вязать. И шить, и готовить она любила, многому меня научила.
Ваша семья как-то отличалась в то время от других похожих семей?
Нет, не отличалась. И мы, когда переехали вот в этот новый дом на площадь Горького (этот весь дом институт НИРФИ строил для своих сотрудников), у нас весь подъезд населяли как раз сослуживцы родителей. И мы очень хорошо жили все на нашем этаже, и вообще в подъезде дружили многие. Взаимовыручка всегда была. Не знаю, мне кажется, что те люди, которые жалуются на коммунальные квартиры, они просто сами люди необщительные и не умеют строить отношения с людьми. Всё зависит от людей. У меня и сейчас соседи напротив замечательные люди. Мы друг друга с праздниками поздравляем, детям, теперь уже внукам, подарки дарим. Ключи друг другу оставляем, если надолго уезжаем. Всё зависит от людей. Не от стен, не от условий, не от обстоятельств. Я же говорю, жили на 100-метровке, и то умудрялись жить по-доброму, по-человечески.
Ну вот, а потом родители мои на пенсию вышли. Мама потом очень землю полюбила… Ну, они крестьяне, я же говорила, что они крестьяне. И мама каждое лето уезжала в свой родной дом. Она же какой ребёнок-то была у них?..
Наверное, большие семьи-то были?
Человек пять у них было: Татьяна, Павел, Геннадий, моя мама, Вера – пять.
Держали связь с родственниками?
Конечно, обязательно. Мы почему-то не держали связь с родственниками со стороны отца. Я не знаю, почему.
У него, наверное, такая же была семья большая?
Тоже было человек пять. Но как-то мы с ними не очень дружили.
Своих бабушек, дедушек вы знаете же.
Дедушка умер до моего рождения ещё, мамин папа. Бабушка умерла в 1955-м, наверное, году. Или в 1956-м, может быть. Но её я помню. Она была такая полная, платочек носила, одевалась по-крестьянски: такая кофтёнка коротенькая, вот здесь на сборочках, широкая такая складочка шла. Запон носила, то есть фартук – запон.
А где виделись, когда приезжали?
Меня же из Ленинграда ещё привозили к ней. У родителей какие-то были сложности, маме нельзя было работу бросать или что-то такое. В общем, меня привезли к бабушке. Я там год-два точно жила, может, больше.
«Вы такого родника никогда в жизни не видели»
Что это за место?
Это Лысковский район Горьковской области, где-то юго-восток области.
Как вы добирались туда?
О, с божьей помощью! На попутных машинах. Вот везут меня маленькую, а потом, когда брат родился, ещё брат маленький, всякие чемоданы, мешки и всё такое прочее. Вот помню, однажды мы сидим в районном городке, автобус-то, о-о-о, когда ещё потом пустили до нашего села! И вот мы сидим, дождичек мелкий такой по лужам лупит и лупит и прекращаться не собирается. Отец где-то ищет попутную машину, пробует её найти, может, её и не будет. И мы сидим под дождём, спрятаться негде. Вот это я хорошо запомнила. Ну, я не знаю, родители как-то перемогались, может, другого ничего более счастливого-то и не видели… Нет, всё хорошо было! Всё было хорошо. У меня там сестра двоюродная, одногодка. Мы с ней дружили, она мне ближе родной сестры была. Потом она переехала в Горький, поступила в училище и жила у нас.
Как проводили время у бабушки? Огородные дела? Купания?
Сначала-то мы были очень маленькие… А, ещё знаете, забавный случай! Мама приехала из Ленинграда. Вся такая вот (показывает фотографию – ред.)! Ну, поразить воображение односельчан, конечно, надо было. Приезжают они что-то рано, а мы с моим дядей Геной, с маминым старшим братом, лежим на кровати. Мы ещё не вставали. Ну, я-то могла долго спать, а дядя Гена-то чего не вставал? Непонятно. И мы лежим, и мама входит. «Галочка, дочка»… Галинка они меня звали. Я смотрю так (показывает, как – ред.). «Ты меня не узнаёшь?» Смотрю так. Ну, мне было года три. Целый год, может, она меня не видела, и вот приезжает. Я смотрю, не отвечаю ничего. Дядя Гена тоже говорит: «Галинка, это мама твоя, ты что, забыла?» Молчу. Ну, мама решает подольститься ко мне, вытаскивает подарки, коробку мармелада (вот это я очень хорошо помню, потому что очень красивая была коробка!) и ещё какие-то подарки. Я так посмотрела, говорю: «Клади». Басом: «Клади». Это они потом мне рассказывали, я этого ничего не помню. Ну, в общем, как-то… сдружились с мамой.
У бабушки был там огород. Три даже участка было: один под садом, другой под огородом и третий под картошкой. Так что она занималась на полную катушку сельским хозяйством. Да тогда и жизнь-то была тяжёлая. Ведь эти все налоги на крестьян: столько-то яиц, столько-то картошки, столько-то там чего ещё – всё это нужно было сдавать. Молоко… Были налоги на кусты смородины, на лишнюю козу. Это же всё было, это они всё пережили, перенесли.
Это была деревня именно?
Это было село. Там была до революции церковь, которую потом благополучно разорили. Особо ничего такого в ней не было, она была, как бы мы сейчас сказали, по типовому проекту построена. Но дело в том, что село стояло на берегу речки. И бережок-то речки был на взгорочке таком, и улицы стояли такой подковой: то есть одна улица, вторая улица и такое вот закругление этой подковы. Стоишь на том берегу, на противоположном, – это очень красиво смотрится! И церковь как раз на серединке этой подковы стояла. Была она голубая, я её помню.
Это уже была руина или использовали под склад?
Наверное, она тогда не служила, но она была вполне целая, даже липы, которые были посажены крестьянами, не знаю, сколько лет назад, цвели, благоухали, красота такая была. А потом потихонечку стала разрушаться. Ещё запомнились мне не рамы, а… решётки, рукодельные такие, местными кузнецами откованные, ёлочкой, вставлены были в окна. Великолепный был пейзаж. Левитан бы точно, если бы побывал там…
Но вы и тогда ощущали эту красоту? Или это уже спустя какое-то время?
Я, может быть, не осознавала как-нибудь разумом, сознанием, но нам, конечно, нравилось. Потому что это красиво, это очень красиво! Потом там же были сады, вся деревня была зелёная, и на улицах берёзы росли, сирени много было, рябины. Хорошее было село. И под самой церковью крутой такой взгорок, и из горы бил родник. Я уверена, что вы такого родника никогда в жизни не видели. Вот такая толщина (показывает – ред.) струи.
Фонтан?
Не фонтан. Такая была из горы труба, и из этой трубы выливалась вода. Туда ходили все «на ключ», потому что никаких колонок, ничего не было – все ходили на ключ. С вёдрами, с коромыслами. Я тоже, кстати, умею это делать. И с 11 лет мы ходили с сестрой тоже на ключ, а с большими вёдрами тяжело было.
То есть это было источником питьевой воды именно?
Да. Техническая вода у нас через 20 метров, через 30 – речка текла. Вот там была техническая. Туда ходили и полоскать, и полы мыть брали воду, и поливать, и всё что угодно. А, естественно, столько воды льётся – её же не разбирало село, хоть приходили каждый день, и по нескольку раз. Вода текла в колоду, колода наливалась, можно было, скажем, пригонять лошадей и из этой большой колоды им пить давать. А потом за этой колодой была ещё деревянная колода, в которой особо аккуратные хозяйки полоскали бельё. То есть не в речке, а в такой вот суперчистой воде. И всё равно это всё текло по лугу… Это место между двумя улицами называлось болото. Но это было никакое не болото, это было сухое место, а болотом оно называлось, потому что ручей тёк, по его берегам справа-слева были немножко заболоченные места и осока росла. Вот это было болото. А там вообще паслось деревенское стадо, его вечером пригоняли, и оно не расходилось. Ни коровы, ни козы, ни овцы никогда по дворам сразу не расходились, всегда все животные шли ещё потрусить травку на болоте. Поэтому травка на болоте была, ну, сантиметров пять – всё общипано было. Потом, когда стада уже не стало в деревне, всё это заросло выше человеческого роста бурьяном. Раньше-то по берегу реки можно было пройти с порядка на порядок, то есть с улицы на улицу, а сейчас уже не продерёшься сквозь него.
«Галинка, пойдём-ка по солюшки»
Вы там бываете?
Давно уже не была. Раньше ездила. Нет, там сейчас место совершенно непрохожее. То есть запустевает деревня. Потом же была ещё безумная совершенно идея укрупнения сельских посёлков. И поэтому какие-то посёлки, сёла, деревни были обречены на уничтожение, на умирание. Свозили работоспособных людей вот в этот самый посёлок, строили там городские дома, пятиэтажные. А пенсионеры оставались в своих избушках, умирали потихонечку, умирала деревня. Вот она теперь такая. Сейчас только дачники, как везде, по всей России.
И вот мама моя, даже когда она уже старенькая стала (я забрала её из Горького, из Нижнего уже тогда, сюда, в Коломну), она всё равно на лето туда уезжала. Где-то с мая по октябрь она там жила, трудилась. Она очень любила землю. Всякие там у неё парнички были, теплички и прочие-прочие дела. Такая работяшка она была. Отец любил охоту, он был охотник. Кроме того, что он ещё был художник и рукодельник, всё такое он любил. Он к своим реже ездил, чем к тёще. Он приезжал, у него двустволка была охотничья, а там речка, на речке-то всякие кулички, уточки и всё такое, и он уходил на охоту. Принесёт какого-нибудь куличка… Птичка чуть побольше воробья. А если её ощипать, так… ну, побольше, чем вот эта сушка. Но, видимо, не для этого он охотился, это хобби такое, просто он природу любил очень. На рыбалку, кстати, тоже ходил, с удочкой сидел на речке.
То есть он охотился, именно приезжая в это село или ещё он искал какие-то способы?
Нет, только приезжая. Обязательно брал с собой ружьё и вот ходил. Принесёт какого-нибудь куличка и тёще вручает – в печке суп сварить. И, кстати, в печке из одного этого маленького куличка – печка же какой-то необыкновенный вкус даёт! – горшок-то, котелок, не очень большой был, – получался великолепный суп! Он так напаривался там, что ли. Ну, а «тушу» давали Галинке! И вот Галинка (это я сама помню) сидит, суп она схлебала ложкой, и у неё в тарелке осталась эта «туша». Отец сидит напротив. Ему очень хочется попробовать, но он крепится и только спрашивает: «Вкусно? Вкусно?» Я киваю головой. Он говорит: «Ты осторожнее, там дробинка может остаться. Зуб не сломай». Вот так вот…
Вы чувствовали, что вы любимый ребёнок в семье?
Наверное, да. Вообще, отец был своеобразный человек. У меня брат есть младше на семь лет. Но отец жил, по-моему, как-то сам по себе, а дети сами по себе. В основном мы с мамой были, конечно. А понял, что у него всё-таки есть сын и дочь, он после того, как вышел на пенсию. И он тогда очень любил со мной ходить в лес. В этой же деревне у мамы леса были очень грибные. А деревня-то окающая, в этом же особая её прелесть была! Это же Нижегородчина. «Да пойдём по грибы, посмотрим, чево на речке-то водится». (Окает, подражая нижегородскому говору – ред.). И он мне говорил: «Галинка, пойдём-ка по солюшки». Солюшки – это сыроежки, там так называется – солюшки. Ну, пойдём мы с ним по солюшки. Но он мало прожил. На 73-м или 74-м году умер. Я сейчас его старше уже.
Этот диалект у них сохранялся по жизни?
Нет, когда они приехали в Ленинград, они сразу перестроились на городской лад. Потом все те, кто уезжал в Горький, тоже перестраивались. Потому что в городах совсем всё по-другому было. А в деревне-то как интересно: там не только «о», там ещё «ё». То есть не «село», а «сёлО». Такой интересный говор. И я вот думаю, когда дядю моего, отца моей двоюродной сестры, одногодки моей, забирали в армию, и дядя Гена уходил в армию, дядя Павел уходил в армию (это мамины братья), они же все в армии так и говорили: «СёлО, из такого-то сёлА». Я вот думаю: терпели они насмешки? Но там, видимо, никто ни к кому не приставал. Там же были и «Доцка-доцка, подай цулоцки. – А где они? – Там, на пецке, в уголоцке.» Это Псковщина уже. То есть в армии много было всяких разных диалектов интересных. Но как-то они не чинились друг перед другом и не обзывались.
Как часто вы ездили в деревню и до какого возраста? То есть когда вы уже поступали в институт, наверное, реже?
Каждые каникулы я ездила, даже в тот год, когда сдавала экзамен вступительный в университет, я тоже всё равно приехала – не на полное лето, а сколько там оставалось до начала занятий.
Никаких пионерлагерей?
В пионерлагере я была всего один раз, когда училась в школе в восьмом классе. Мне страшно не понравилось. И второй пионерлагерь – это когда я была на пионерской практике в университете после второго, что ли, курса. Я уже была вожатой. Вот тут мне понравилось! У меня было 50 гавриков 11-12-летних. Это, сами понимаете, самый такой возраст, который если не открутит вожатому голову, то значит это большая удача. И вот было у меня 25 мальчиков, 25 девочек. Несусветное число! Столько детей сразу воспитывать нельзя!
Это где-то тоже под Нижним?
Да. Там местечко есть такое курортное – речка Линда, там пионерский лагерь, и нас туда на практику направили.
«Что за ребёнок странный такой – Гоголя читает, “Мёртвые души”»
А как вы выбирали вуз, кто вам помогал, не помогал?
Я думала, почему я выбрала именно филологию. Ну, во-первых, мама у меня всегда, как она рассказывала, писала всякие там сочинения, изложения на пятёрки. И учительница русского языка ей всё время говорила: «Тебе надо поступать на литературный факультет или в литературный институт». Ну, мама поступила, понятное дело, куда: война началась, и никуда она не поступила. Но, видимо, способности у неё какие-то были. Вот, может быть, мне передалось.
Это было ваше решение?
Это было моё решение. Дело в том, что в восьмилетке у нас литературу преподавали плохо. Но у отца была маленькая библиотечка. Он любил читать, и вслед за ним читала я. Я очень любила Гоголя. Мне было 11 лет, я никогда не забуду, как в каникулы приходила в читальный зал детской библиотеки, садилась, брала «Мёртвые души» Гоголя. Можете себе представить? Человеку 11 лет! Брала огромную книгу, такой фолиант подарочный, что ли, очень большой. Я каждый день, каждое утро приходила, брала эту книгу – и пока всё не прочитала, так вот и читала. Библиотекарша вокруг меня на цыпочках ходила! Дескать, что за ребёнок странный такой – Гоголя читает, «Мёртвые души»!
Что вы помните из своих впечатлений от этого чтения?
Ну, во-первых, я всё понимала, наверное. Во-вторых, я понимала все характеристики героев. Я понимала авторский юмор и авторскую издёвку, и мне всё это очень нравилось. Может быть, вот это как-то меня ориентировало поступать в вуз. И у меня сочинения были всегда в школе на отлично, и в восьмилетке, и в десятилетке. Но я хитрая – я никогда не брала то, что по учебному плану нужно было: образ Онегина или кого-нибудь. Я всё время брала свободную тему, и на этом деле всегда получала пятёрки. Потому что здесь было творческое начало, я была вправе писать всё, что я считаю нужным. Умные учителя никогда не требовали от меня говорить, как в учебнике. Мне такие учителя всё время и попадались. И дочери моей, кстати, тоже: в 15-й школе она училась здесь, в Коломне, у неё тоже была замечательная учительница – Ольга Фёдоровна Небылицына. Ой, как они писали сочинения! Дочь напишет сочинение, Ольга Фёдоровна поставит ей пятёрку и потом свою точку зрения на трёх листах напишет. Моя дочь увидит пятёрку, сочинение учительницы на трёх листах прочитает – и на двух листах ей там ещё чего-то изложит! Это было вообще блеск смотреть, как Ольга Фёдоровна умела строить отношения со способными учениками по литературе.
Ну вот, и можно было выбирать вуз. У нас гуманитарные вузы были: это иняз, пединститут и университет с истфилом, историко-филологическим факультетом. Ну, с инязом у меня… Я хоть и занималась немецким языком, но уж больно-то я его не любила, поэтому отпадало сразу. А потом эта зубрёжка языка – ой, это не для меня. Это люди с хорошей, с отличной памятью ещё могут заниматься, а у меня память очень посредственная, поэтому у меня выбор был между пединститутом и университетом. Пединститут, считала я, – это педагогический диплом. Нет, школа – это не моё. Я выбрала университет. В университет, конечно, поступить сложнее. Ну, попробуем, нам же не в армию идти. Я вам скажу, что поступить было достаточно сложно, потому что у нас было 11 человек на место. Одиннадцать! Это 1967 год. 11 человек на одно место, и нужно было всех их победить. Вот Нисон Семёнович Ватник (мы с ним, оказалось, с одного года) вспоминал, что у них набирали ещё и кандидатов на места студентов. У нас тоже. Первая сессия, сдаём. «Ты, значит, это вот не сдал – ну и пока, привет. Вот Иванов, Петров, Сидоров на твоё место хотят». Вот так! Так что и кандидаты ещё дышали нам в затылок. И это нас как-то дисциплинировало, как минимум до первой сессии. Кстати, к нам на филфак, как я поняла, многие девочки поступали (это какое же нужно было усилие предпринять!) для того, чтобы выйти замуж. Я так удивлялась, когда это поняла! Девчонки поступали, экзамены сдавали – трудно было всё-таки: четыре, что ли, мы экзамена сдавали, – для того чтобы познакомиться с кем-то. Они жили в общежитиях, общежития были не только истфила. Ещё и мужские факультеты у нас были, много мужских: механико-математический, радиофизический, физический, ВМК – вычислительная математика и кибернетика. Там одни мальчишки учились.
И благодаря общежитию они рассчитывали замуж?
Наверное, а потом у нас же были ещё и общие мероприятия: балы, танцы-шманцы и всё такое прочее. И некоторые не давали себе труда учиться дальше: они познакомились с мальчиками – можно уходить.
А, вот так даже? Такие тоже у вас были девушки?
Были. Я не скажу, что их было много, но были, да.
Вы поступали без дополнительной подготовки?
Ой, да какая тогда, в 1967 году, дополнительная? Что вы! То, что у тебя в аттестате зрелости в школьном, и всё. Ну, к экзаменам-то мы, конечно, готовились. Я говорю, у меня плохая очень память, поэтому мне труднее всего было сдавать даже не немецкий язык, а историю с датами. История последним была предметом, то есть когда я уже на последнем издыхании была. И у меня истерический такой припадок случился: мы жили на пятом этаже, и я учебник истории с пятого этажа махнула во двор – не могу я больше!
Пришлось за ним идти?
Пришлось. Никто его не взял, никто не позарился.
То есть вы с первого раза поступили.
С первого раза я поступила.
Вы себя внутренне хвалите? Для вас это было достижением?
Да не знаю как-то… Я очень боялась, я вообще по натуре-то трусиха. Причём, когда вот так стоишь толпой в коридоре и ждёшь, когда очередной абитуриент выйдет, и ты пойдёшь, твоя очередь наступит… Общаешься же друг с другом. Там такие девчонки были подготовленные! Я думаю: куда уж мне-то! У нас одна «Евгения Онегина» от первой буквы до последней точки могла наизусть, а я нет.
Но она поступила?
Поступила, да.
Всё надо было на пятёрки сдать, чтобы пройти?
У меня даже лишний балл оказался. Не помню, как у меня так получилось.
По аттестатам, может?
Нет, по экзаменам. Аттестат… Потом-потом, когда все экзамены сдашь, может, и был какой-то конкурс аттестатов. Я что-то этого не помню. Ну, в общем, я поступила.
Из вашего класса вы единственная поступали?
Я единственная поступала на этот факультет, на филологическое отделение, во всяком случае. Но очень боялась. И как-то всё получилось хорошо. А как я русский язык сдавала, устный русский – это было смешно. (Перед этим я сдала литературу, попался мне «Евгений Онегин», ещё что-то такое, в общем, труда мне это не составило, я нормально всё сдала.) Вхожу, сажусь, а преподаватели сидели в нескольких местах в аудитории, чтобы скорее всех нас пропустить, то есть не одна комиссия выслушивала, а сидели в разных местах один-два преподавателя, они вызывали к себе, и так всё быстро происходило. И вызывает меня преподавательница (я её первый раз вижу, естественно), молодая, а рядом с ней сидит преподаватель, молодой, – тот, который у меня литературу принимал. Я начинаю отвечать. А вообще язык я всегда очень любила, русский. Я его любила до такой степени, что потом даже специализировалась и диплом писала на кафедре русского языка. Интересно мне было это всё! А тут забыла, как образуются причастия вида какого-то… И преподавательница мне тоже сочувствует: «Ну, Галя, ну давай!» Я вспоминаю – не вспоминается! И тогда преподаватель, который мне поставил пятёрку по литературе, говорит: «Слушай, ты сама-то знаешь (преподавательнице говорит), ты сама-то знаешь, как они образуются?» Она махнула рукой, и поставили они мне пять вдвоём. Вот так вот. Может быть, это и был как раз лишний балл?
Ну, видимо, всё равно почувствовали в вас какую-то силу, базу и основу.
Вероятно. Мне кажется, у меня какое-то ещё было такое… обаяние, что ли. Тут-то я ничего не чувствовала, а вот когда стала немножко постарше и какие-то вещи стала анализировать, я поняла, что людям ещё нравится какая-то моя человеческая составляющая. И они готовы мне помогать, скажем так.
Вы для себя как-то сами объясняете, как это возникло внутри вас? Может быть, благодаря чему-то?
Нет, это врождённое. А может быть, те условия в которых живёшь, среди каких людей вращаешься: если среди хороших, добрых, сама это как-то впитываешь в себя и по-другому не можешь уже. Наверное, так.
«У нас были преподаватели – личности, люди с именами европейскими»
Ну, на первый курс мы поступили, кандидаты нам в затылок дышат… Но первый семестр был такой неинтересный, ну такой скучный! Не было ни одной науки, были всё введения: введение туда-то, введение сюда-то… И преподаватели были все очень скучные и очень старые. Это потом у нас были преподаватели – личности, люди с именами европейскими. Вот это да!
Потом – это когда?
На старших курсах. А на первом курсе у нас были преподаватели… Например, введение в языкознание преподавал старичок такой ветхий. Наверное, он на самом деле был ветхий, не только потому, что мне было 17 лет, и он мне ветхим казался. У него был такой пушистый, как у одуванчика, пушок на голове. Все повадки у него были такие старческие. Он преподавал долгое время в Казахстане, и все у него примеры были (введение в языкознание он читал) как раз из казахского языка. «Кыз бала, – говорил он нам. – Кыз бала». Что такое кыз бала? Вы не знаете, а я знаю: прекрасная девушка!
Вы посмеивались над ним?
Ой, мы его Баба Зина называли. Он был Зиновий… не помню, как по отчеству. Баба Зина. «Что у нас сейчас?» – «Введение в языкознание, Баба Зина».
Как вы собирались с волей…
А вот я не собиралась с волей! Я сказала: «Всё! Эту нудятину, серятину изучать не хочу! Я не пойду больше в университет. Мне скучно». И тогда вся моя родня: «Галя, да ты что? Ты поступила, так трудно было поступить, и теперь хочешь бросить! Ну, давай ты первый курс-то уж кончи!» Ладно уж, первый курс я кончу.
А когда этот протест возник? На середине?
На середине первого курса где-то. Баба Зина приходит: сю, сю, сю…. Потом у нас была ещё бабушка, тоже чудная. Кстати, она потом была у меня руководителем первой курсовой работы. Пятёрку мне поставила, хоть мы над ней смеялись, но вот она что-то такое сумела во мне увидеть, потому что на защите (а мы курсовые защищали тогда) она говорила: «У этой студентки абсолютное языковое чутьё». Вот я, значит, усвоила, что у меня абсолютное языковое чутьё, и всегда как-то старалась его укреплять. В общем, родня меня уговорила, я не бросила.
Тянули лямку, можно сказать.
Тянула лямку, да. Хотя потом ещё что меня добивало – общественные науки. У нас историю партии три семестра читали. Три семестра! Я не могла никогда отличить партийный съезд номер такой-то от партийной конференции номер такой-то. Хотя у нас в группе (у нас же практические были) была девушка, которая ко всем семинарам, коллоквиумам готовилась по истории партии. Можно себе представить? Я на неё смотрела вот такими глазами и думала: «Господи, бывают же такие странные люди!». Но она была наша палочка-выручалочка, потому что она всегда всё готовила, она всё всегда знала. И мы говорили: «Ленка, давай, давай, задавай вопрос и увлекай, увлекай преподавателя!» А мы все будем отмалчиваться и отсиживаться, потому что любителей-то, кроме неё, наверное, и не было больше у нас никого. Кстати, она, знаете, откуда была? Из Арзамаса-16. Арзамас-16 – это закрытая была территория, где придумывали атомную бомбу. Теперь Саров называется. Бомбу там так и придумывают до сих пор, но уже это открытая территория. А тогда же их снабжали… Нам нужно было за апельсинчиком ехать в Москву – ночь на электричке. А Ленка через все свои кордоны нам приносила по апельсинчику из своей закрытой территории в качестве подарка.
То есть в буквальном смысле апельсинчик?
Буквально, да. У них снабжение было московское: и колбаса, и что надо было ещё для души. Вот такая она у нас была чудачка. А преподаватель не менее чудак был. Он три раза писал кандидатскую. Три раза! Когда уже у него к защите готова кандидатская – власть меняется. И так три раза. Три раза он не защитился. Мы ему, конечно, очень сочувствовали. Представьте историю партии – ну, попробуй защитись, если не уложишься в этот промежуток, и власть меняется. А потом пришли к нам очень интересные преподаватели. По логике у нас был очень интересный преподаватель, по русскому языку, по морфологии. Казалось бы, морфология – это состав слова. Состав слова – казалось бы, что такого интересного-то? Даже историки сбегались к нам на лекции слушать его, до такой степени было интересно. Такой щупленький был преподаватель, очки громадные на лице. Но очень мы уважали его лекции по морфологии современного русского языка, так называлась наука. У нас, кстати, в отличие от местного университета, где одна кафедра языка, кафедра литературы (и истфак там есть), никогда так не было. У нас была кафедра древнерусской литературы, кафедра классической русской литературы, кафедра современной литературы…
Ну всё-таки университет…
Так здесь тоже университет.
А, вы имеете в виду сейчас?
Сейчас. Тогда, когда в Коломне был ещё институт, было две кафедры: литературы и русского языка, а сейчас одна осталась… И не одна кафедра языка у нас была: современного, древнерусского и т. д. У нас замечательные были преподаватели, я говорила, – с европейскими именами. Георгий Васильевич Краснов, который потом пришёл в Коломну. Он нам классическую литературу читал. Его ученик, Всеволод Алексеевич Грехнёв, тоже человек с европейским именем. Я до сих пор в интернете встречаю на разных сайтах их работы. Серафим Андреевич Орлов, это зарубежка. И на моей кафедре, где я занималась, на кафедре современного русского языка, Борис Николаевич Головин. Это всё академическое образование. Так что вот это всё и удерживало в университете. А логику нам Чернов преподавал. Тоже что-то долго, два семестра, по-моему, поэтому нас теперь никто уж не собьёт, у меня теперь с логикой очень хорошо.
Осознавали ли вы, что это то, что вам действительно нравится, и то, что это может стать вашей профессией?
Дело в том, что я в пединститут-то не пошла, потому что педагогический диплом мне был не нужен. Я же была такая наивная чукотская девушка, я же не знала, что в университете на филфаке выдают педагогические дипломы. Я по диплому преподаватель русского языка и литературы.
А как так, интересно?
Так. Университетские дипломы такие были. На гуманитарном. Другое дело, что нам ещё и свидетельство об окончании медицинского училища выдали. Это на военной кафедре. Четыре года занятий по программе медицинского училища. Некоторые, кстати, у нас получили эти свидетельства и в школу не пошли, а пошли в поликлинику медсёстрами.
Серьёзно?
Немногие, но были у нас такие, да.
«Признанный медик во всей деревне»
Я на медицинской кафедре занималась с большим удовольствием. До такой степени большим, что когда сдавала экзамен по хирургии (что такое медсестра хирургическая? – это повязки, повязки крутить) и досталась мне такая сложная повязка, «черепашка» называется – на череп. При травме черепа от одного уха до другого накладывается.
Это её официальное название? Или это вы так называли: черепашка?
Нет, это среди хирургов, они так и называют: черепашка. Повязка на череп – может быть, так она называется. Друг на друге же мы крутили: кто сдал, тот сидит, на нём делают все. И когда я всё сдала – и теорию, и черепашку на пятёрку накрутила, – хирург, он был преподаватель Военно-медицинской академии… В Горьком была тогда военно-медицинская академия. Два института: институт медицинский для гражданских и для военных Военно-медицинская академия. Так нам хирургию читал как раз оттуда, из академии, некий Селезнёв, как зовут, не помню. И вот он ставит мне пятёрку за общий экзамен и говорит: «Слушай, что ты пошла на свой филфак? Ну, что ты не видела на этом филфаке? Давай иди к нам. Из тебя врач, знаешь, какой получится?» Он, наверное, думал, что я пошла где полегче, он же не знал про одиннадцать человек на место. Я ему говорю: «Нет, я к вам не поступлю. Я физику не сдам». А физику я в школе действительно еле-еле сдала. Брала три билета – ни один не знаю. Помогли мне сдать по последнему билету на троечку, натянули. «Я физику не сдам». «Да ладно, поможем мы тебе», – говорил Селезнёв. И, кстати, знания, которые я получила на военной кафедре, мне потом всю жизнь пригождались. Всю жизнь! Я рассказывала, что была вожатой в пионерском лагере, у нас была пионерская практика. Там я вправила сустав плечевой. Дети играли в волейбол где-то далеко, может, полкилометра от лагеря. И девчонка одна так замахнулась, что у неё рука раз – и висит вот так. Ей больно, она орёт, все боятся. Я-то, конечно, самая знающая. И медсестры почему-то не было в тот раз. А девчонка-то орёт, а мне её жалко. Ну, тут я сосредоточилась, вспомнила, чему нас учили.
Уровни первой медицинской помощи вполне могли сравниваться даже с такими сложными случаями?
Да, именно на этой кафедре нас учили, но, правда, друг на друге. Я вспомнила, куда сначала, куда потом, повернула. Девчонка у меня затихла, не больно ей стало. Ну, тогда я несколько пионерских галстуков связала, иммобилизовала ей руку: перекинула галстуки через шею и привязала… А тут и ребята из старшего отряда с носилками прибежали и с медсестрой, у которой волосы дыбом: «Что такое? Что такое?» Всё, уже ничего. Потом в деревне как-то было, в той самой, о которой я вам рассказывала. Работали женщины на лесоповале, пилили деревья. И одну задело большим сучком по лицу и сломало ей нос. И вот она приходит, у неё кровища хлещет из носа. Привели её – кровопотеря, во-первых, во-вторых, она боится, а в-третьих, больно. Ну, я же тут «признанный медик во всей деревне». За три километра у нас был ближайший фельдшер, поэтому я на самом деле единственный медик в деревне. Прихожу, засунула ей вату в нос, вспомнила, как повязку на нос делают, сделала эту повязку. Бинты-то, слава богу, были не чета теперешним, а плотные, хорошие. Это сейчас вот… ладно, не будем о плохом. И отправили её на лошади в больницу. Потом приезжает она. «Ну чего, тётя Таня, рассказывай». Тётя Таня рассказывает: «Ты знаешь, они спросили: “А кто это тебе повязку наложил?”».
По науке?
По науке. Не бывает знаний лишних. Вот я, честное слово, сколько раз уже убеждалась. И покойный наш главный врач Виктор Иосифович Мещеряков из ЦРБ коломенской (замечательный человек, я его очень уважала, у нас с ним были такие добрые, дружеские отношения) мне как-то сказал: «Слушай, ты какая-то журналистка странная. Ты приходишь – тебе ничего объяснять не надо, ты всё сама понимаешь». Я говорю: «Так здрасте, у меня же свидетельство об окончании медицинского училища есть». То есть не бывает знаний лишних. Всякие знания всегда пригождаются. Ну и сейчас кое-чего помню, друзьям внуков всякие повязки накладывала и прочее. Ну, это уж любые бабушки умеют.
«Красновская духовная семинария»
Вернёмся к университету, к годам университета. Как заканчивали?
Когда мы учились на втором курсе, это 1968 год: советские танки в Венгрии и в Чехословакии. На нас это отразилось так, что у нас «раскрыли антисоветскую организацию», которая из старшекурсников в основном состояла – историки, филологи, которые хотели повернуть действующий режим на ленинские рельсы. Замечу: не на американские, а на ленинские. Тогда были комсомольские собрания по всем группам и по всем факультетам. И вообще шум был большой. Письмо в защиту Солженицына подписывали наши студенты. В общем, всё это в кучу свалили и всех активных «антисоветчиков», диссидентов будущих, исключили. И под эту метлу попал как раз Георгий Васильевич Краснов. Профессор Краснов, доктор филологических наук, которого тоже уволили. Он не в самой организации был, а у него аспирант был в этой организации. И причём воспитанник, можно сказать, его, потому что он в семинаре у Георгия Васильевича занимался. В университете был семинар по классической русской литературе, который все семинарцы называли Красновской духовной семинарией.
Красиво.
Красиво. Вот за это «красиво» он как раз и пострадал. Сам он ничего не подписывал. Ну, разговоры, наверное, были, потому что, сами понимаете, в 1968 году настрой уже был определённый… Ну, в общем, студентов отчислили, преподавателей уволили…
Это действительно имело место? Или это какая-то такая расправа над особо активными людьми, в какой-то момент ставшими неугодными?
Письмо в защиту Солженицына они подписали. Они не отказывались, что подписали. Это было вообще всесоюзное письмо, которое подписывали многие-многие люди. Что такое самиздат, известно, да? То, что на машинке перепечатали, друг другу передаёшь. Эти письма же передавались из рук в руки. Самиздат вообще уже тогда ходил. В самиздате что было? «Мастер и Маргарита» Булгакова, например. Когда ещё его «Новый мир» напечатает, а так в самиздате роман уже ходил.
Вы тоже в самиздате тогда читали?
Как я его читала, я не помню. В самиздате я читала, помню, Набокова «Дар». Ну, мерзкий такой роман, который мне сразу не понравился. Я его не перечитывала с тех пор, хотя, может, надо бы заглянуть, хотя бы с точки зрения взрослого человека. Мне показалось… типа кухонные сплетни. Я всегда это не любила, хотя и жила в коммуналках много-много раз. Кстати, про последнюю коммуналку я же не рассказала. У меня была ещё одна коммуналка… Ну, про университет. Георгия Васильевича уволили. И у него то ли были какие-то здесь связи в Коломне… Коломна всё-таки не какая-нибудь тьмутаракань, это рядом с Москвой, хоть и не очень рядом, но всё-таки рядом. А тогда ректором был, по-моему, Кряжев. Я-то Кряжева не помню. Я Корешкова хорошо помню. И Кряжев пригласил Георгия Васильевича на собеседование. Вроде как тот подал своё прошение о том, чтобы его приняли. И Георгий Васильевич после предъявления всех своих бумаг, достижений и прочего-прочего так и сказал, как честный интеллигентный человек: «А вы знаете, за что меня уволили? Вот за это и за это». А Кряжев якобы (так говорили) сказал: «Ну и что, я сам сидел». Поэтому Георгия Васильевича и взяли. Но личность у Георгия Васильевича была, я вам скажу… это действительно Красновская духовная семинария, потому что он не только классической литературе учил. Вот чем хорош наш университет в отличие от институтов, в которых я не училась никогда? Нас учили думать. Нас постоянно на всех курсах учили не зубрить, кроме инязов разных (кстати, инязов у нас тоже было несколько…), учили думать и самообразовываться. Вот это в нас заложили, спасибо им всем большое. Ещё обаяние личности преподавателя на нас действовало, мы сформировались под влиянием этих личностей.
Когда Георгий Васильевич пришёл сюда, немножко по-другому стала кафедра выглядеть. Там уже были Ингер, Петросов. Тоже очень необыкновенные личности, необыкновенные учёные. И Александр Петрович Ауэр, молодой был он тогда, приехал из Саратова. И потом Викторович приехал после Георгия Васильевича, Георгий Васильевич Викторовича и взял потом. Когда Викторович защитил кандидатскую, ему нужно было куда-то устраиваться, и Георгий Васильевич сказал: «Приезжай». Ну, и сейчас ещё могу назвать среди этих людей, которые образовали хорошее ядро кафедры, Анатолия Валентиновича Кулагина, он был самый молодой, хотя сейчас уже не очень молодой… Всё-таки какая-то у них была особенная аура. Я помню, когда у нас дочка окончила 11-й класс, это был лихой 1991 год. Раздрай в стране, когда вообще неизвестно что и неизвестно куда и когда. Ей нужно было поступать в пединститут. В наш пединститут. Я-то боялась отправлять её в Москву. Ну, вообще-то МГУ, конечно… Я очень боялась её в Москву отправлять, потому что там беспредел же царил необыкновенно какой. Отец её поехал на кафедру литературы МГУ, с которой он был в дружбе, читал у них – в общем, люди там были знакомые и в крайнем случае могли бы и словечко замолвить, если что. Он туда приехал, а ему говорят: «Слушай, у вас сейчас кафедра сильнее нашей. Куда ты ребёнка тащишь? У вас кафедра сильнее нашей!» Ну и всё, мы успокоились, и Ольга закончила здесь. В общем-то, я не пожалела, что она здесь закончила, потому что она училась вот при этих преподавателях. Как она сдавала литературу! Я её просила, снаряжая на вступительный экзамен, сочинение, говорила: «Оля, пожалуйста, не бери ты этих своих рок-поэтов! Ну не бери, ради бога! Никто же их не знает из тех, кто будет проверять твоё сочинение! Как это оценивать-то будут?» Ну, пошла. Я пошла на работу, сижу в «Коломенской правде», звонит знакомая, которая работает на кафедре, Тамара Ауэр. Звонит и говорит: «Ты знаешь, что пишет твоя дочь?» Я говорю: «Нет». «Она пишет рок-поэзию». Всё!..
Это вступительное?
Вступительное сочинение, да. «Она пишет рок-поэзию!» У меня никогда до этого и никогда после такого не было: ощущение, что голова вот так расширяется. Давления, что ли, скачок был? Вот так голова расширяется!
Вы испугались?
Я испугалась. Не того, что она не напишет, а кто проверит – вот чего я боялась-то. Ну ничего, она на пять написала. Кто-то нашёлся, знаток или что, я не знаю. Может, Анатолий Валентинович тогда уже в рок-поэтах разбирался, он же бардовский у нас исследователь. В общем, пятёрку ей поставили. Ну, это было испытание…
«Я взяла самое плохое распределение – горный Таджикистан»
Мы про окончание университета. Вы закончили его, видимо, успешно?
Да, вполне успешно.
И нужно было дальше как-то определяться…
А дальше я вышла замуж.
Сразу же?
Да, прямо на пятом курсе вышла. Потому что у нас распределения были в Среднюю Азию.
Как-то это звучит: «вышла замуж потому, что у нас были распределения»…
Друг-то у меня был уже, и «дан приказ ему на запад, ей в другую сторону». И я взяла тогда самое плохое распределение – горный Таджикистан. Я спасла кого-то, кто бы иначе поехал туда. Вы можете себе представить: какой-нибудь кишлак или аул в горах, где люди по-русски не говорят, особенно дети по-русски не понимают. Ладно, какие-нибудь там партийные руководители и хозяйственные руководители, они по-русски могут. А как вообще общаться там?
Ещё надо сказать, какой это год был.
Это 1972-й. И в Таджикистан как раз было одно распределение, самое плохое, но поскольку я узнала, что выйду замуж, я его и взяла.
Что значит «вы взяли»? У вас была возможность выбрать?
Была, да. Нам предлагали: вот такие у нас есть адреса, пожалуйста, выбирайте. Ну, я думаю: всё равно я буду выходить замуж, кого-то спасу от горного Таджикистана. И у нас очень много поехало тогда в Узбекистан – хлопок собирать и детей учить русскому языку, литературе. Ой, у меня сохранились письма от однокурсниц, они рассказывают, как они работали, русскому языку учили. Мы, говорят, до декабря хлопок собираем с детьми, а после апреля, что ли, или когда у них бывает уже весна посевная, мы тоже выходим на поля. А всё остальное время мы учим русскому языку, литературе. Русский язык ещё ладно, бытовому можно научить, как вот сейчас детей учат. А литература? Это же надо читать. А если они язык не знают, как они будут читать? В общем, там интересно всё было. И нужно было отработать… Ой, сколько же тогда? Три года, что ли? Три года. Вот девчонки, мои подружки, и работали там. А я вышла замуж, получила свободный диплом. Я очень расстроила распределительную комиссию, которая сразу заподозрила, что у меня злой умысел был и что я не сообщила в своё время, что выхожу замуж. Ну, был у меня такой злой умысел! Ну что же, я думаю, беды большой не случилось.
Они действительно были уверены, что вы поедете в Таджикистан?
Да, да. Всё, распределение закончилось, все разобрали, кому чего.
Они поставят галочку, что вот у нас…
Ну, я не знаю, чего они ставили, может, галочки, может, какие-то документы в папочку складывали. Но дело в том, что Викторович, например, взял лучшее распределение. А лучшее распределение – это учитель русского языка и литературы в Борской школе, даже не в самом городе Бор.
Та же Нижегородская область, правильно?
Да, Горьковская тогда ещё была. То есть через речку переехал, и там город Бор у нас. Это лучшее распределение – сельская школа в Борском районе. Близко к городу потому что… А сейчас вообще на Бор ходят вагончики подвесной дороги. То есть с горушки с нашей на ту сторону, да ещё и прокатишься с удовольствием, и недорого. А тогда же этого ничего не было. Викторович взял лучшее распределение и поехал туда. А был 1972 год. Помните, что было у нас в 2010? Пожары. В 1972 году то же самое было. За речкой-то, за Волгой, там же сплошные торфяники. Торф там горел необыкновенно, в Горьком дышать было совершенно нечем. Армию всю на уши поставили. Танки проваливались в прогоревший торф. В общем, всё было очень плохо. И вот он со своим распределением туда является, в районный отдел народного образования города Бора. Ему начальник роно говорит: «Слушай, бери ты свои бумажки и иди ищи себе место сам. Ты видишь, что у нас делается? У нас солдаты гибнут. Нам не до тебя, иди». И вот он пошёл сам искать работу.
В Горьком уже он искал, в городе?
В Горьком, да. Когда мы уехали, в Горьком жило уже полтора миллиона жителей, там можно было что-то найти, конечно. Главное, чтобы написали, что ты не нужен. Ему написали: не нужен. И вот он стал устраиваться на работу сам. И устроился в молодёжную газету литсотрудником. Это раньше так называлось, в общем, корреспондентом. И там работал и писал потихонечку диссертацию. А у меня был свободный диплом. Я помаялась, по многим местам помыкалась со своим свободным дипломом. Где только я не работала! И в Доме учёных, детским культорганизатором, и в библиотеках – в одной, в другой, в третьей. Больше всего мне понравилась областная детская библиотека, потому что там у меня была творческая работа. Я разрабатывала методички для сельских библиотекарей: как работать вот с такой книгой, какие массовые мероприятия с ней устраивать, какие вопросы для викторины. Это была творческая работа, мне нравилась. Но потом пришлось уезжать.
И вот как раз в это время, когда я вышла замуж, была моя последняя коммуналка. Это проспект Ленина на пути к автозаводу. Там были такие дома, наверное, как раз первые хрущёвки, без всяких излишних архитектурных особенностей – дома из силикатного кирпича. Там тоже были квартиры на одну семью, но вселяли несколько: вот мы, и в маленькой комнате жила ещё одна очень странная женщина. Мы с ней никак не контактировали, потому что она сама как-то не хотела с нами контактировать. Но она была очень странной. Ну, терпели мы её. Она хоть не вредная была. А потом мы переехали сюда, потому что Викторович защитился, кандидатскую свою защитил.
Там, в Горьком? В университете?
Нет, он в Томском университете защищался. Это один из старейших российских университетов, который был основан ещё до революции. Это город молодёжи! Под каждый факультет там отдельное здание, здание историческое, не просто тебе камень на камень, шалаш на шалаш – красивый город. Там целый проспект этих факультетов, и по этому проспекту идёт молодёжь. Я только в Тарту видела столько молодёжи, там тоже очень старый университет. Георгий Васильевич Краснов тогда нашёл Викторовичу место защиты, и он туда летал защищаться. Ну, удачно, конечно, человек-то умный, талантливый, занимался тем делом, которое ему нравится, не для карьеры, а для души.
Потом переехали сюда. Здесь уже нам дали в Колычёве квартиру.
То есть сюда переехали по приглашению?
Георгий Васильевич, когда защитился Викторович, сказал: «Приезжай сюда, я тебе место найду». И его взяли на филфак. И дали квартиру, у них была, видимо, в резерве для будущего преподавателя.
«Открыли комнату: полы не циклёваны, и на них дохлых мух мириады!»
Нижний покидали не с грустью? С какими чувствами?
С грустью. Он-то уехал раньше, а нам нужно было какие-то дела завершить. В общем, где-то я в январе, что ли, 80-го года уже поехала одна, с чемоданами, дочку оставила маме, приезжаю на электричке, проезжаю станцию Коломна (мне сказали, что нужно в Голутвине выходить), смотрю – там такие избушки на курьих ножках, думаю: «Ё-моё, вот-те Коломна! И куда это я еду? А есть ли тут какой-нибудь транспорт, или тут пешком ходят?» В общем, до Голутвина я доехала, меня никто не встретил. Видимо, не было возможности встретить: лекции были и всё такое. Я на трамвае. Слава богу, трамвай, оказалось, в Коломне есть. Я со своими баулами в этот трамвай. И опять сплошные избушки. Я думаю: господи, да что же мне не везёт-то? Ну что же это я в деревне жить-то буду? Выхожу у пединститута. Тут меня встречают, баулы мои несут. В общежитие заходим. Комната в общежитии: выбитая форточка, закрытая фанеркой. Всё. Безысходность у меня была такая… Думаю: ну что же делать, значит, судьба такая. А потом дали вот эту двухкомнатную квартиру. Причём не хрущёвку, а с отдельными изолированными комнатами. Маленькая, конечно, но… По тем временам вполне хорошая.
То есть первое впечатление от Коломны удручающее?
Удручающее, да. И, кстати, вот про соседей-то, соседей напротив. Вещи мои ещё едут в контейнере, а у меня нет ничего. Кастрюлю я здесь в «Тысяче мелочей» купила, суп варить. И когда открыли комнату: полы не циклёваны, их надо циклевать и что-то с ними делать, и на этих белых полах дохлых мух мириады! Они, видимо, там все передохли от бескормицы. Ну что с ними делать-то? И соседка, баба Марья, постучалась ко мне. «Дочка, – говорит, – вот на тебе ведро, вот тебе веник, совок, вот тебе тряпка, приводи всё в порядок». И вот эта баба Марья, замечательный человек, заложила, так сказать, фундамент наших взаимоотношений с теперешними соседями. Всё зависит от человека.
Сколько времени ушло на обустройство? Это какой район-то?
Ближайшая часть Колычёва, девятиэтажки.
Новые дома, по сути.
Новые-то новые, но они с какого года? Где-то конец 1970-х. То есть люди в доме жили, а эта квартира просто сохранялась. Почему и мухи передохли – там никто не жил. Ну, конечно, дома ужасные…
Как вы знакомились с Коломной дальше? Вам же надо было как-то осмотреться.
А дальше, видя, что я тут погибаю от безысходности, Викторович сказал: «Ну, давай я тебе хоть покажу Коломну». Я говорю: «А что, это не Коломна?» – «Это не Коломна». Сели мы на трамвай, приехали вот сюда, поводили меня, порассказали мне, и у меня отлегло от сердца, сильно отлегло. Я сказала: «Ну, слава богу, это на Владимир похоже. Будем здесь жить».
То есть отлегло именно в исторической части города, когда вы познакомились с ней?
Да, после того, как я здесь походила. А какой был центр тогда? Тогда ведь даже Соборная площадь не такая была: травка-муравка и земляные дорожки протоптанные. Хотя, знаете, ещё поспорить, что лучше: нынешняя брусчатка или тогдашняя тропинка.
Это правда, да.
В общем, это меня примирило с Коломной. Потом я долго не могла устроиться на работу. Я же пришла в «Коломенскую правду», одна была газета. «Нет, не надо, не требуются сотрудники».
Как искали тогда работу? Что нужно было предпринять?
Нужно было в горком партии идти. Там отдел пропаганды, наверное. Туда надо было прийти и сказать, что вот явился ценный сотрудник, литератор. Кстати, ценный-то ценный, но у меня же досье-то было. Я работала не только в библиотеке. Я же потом работала в студенческой многотиражке, в политехническом институте, он теперь университет тоже, в котором тысяч десять, наверное, студентов училось. И у нас была лучшая в Российской Федерации многотиражка студенческая. То есть уже с опытом я пришла. И ещё с одним опытом я пришла: меня же взяли на Горьковскую студию телевидения, на областную. И там тоже была школа хорошая. Я работала в молодёжной редакции.
А почему вы так часто меняли работу? Это как-то так складывалось?
Так складывалось, да. Я вам скажу, что с телевидения я ушла с лёгким сердцем, потому что это была коллективная работа. Я как редактор детского вещания (должность называлась редактор). Там женщина уходила в декретный отпуск, и меня на время её декрета взяли, подруга университетская похлопотала. Ну, поработаю детским редактором. Я создавала литературную основу и, кроме того, куда-то ездила, с кем-то встречалась, что-то узнавала, писала сценарий, а потом моё же дело – с режиссёром туда же съездить. Вот режиссёр, он маленький, он один уже никак не мог, без редактора, то есть я дважды в одно и то же место должна была поехать. И мало того, я ещё и на видеосъёмках, видеозаписи должна была присутствовать. Режиссёру сдаю свой сценарий, звукорежиссёру сдаю, художнику сдаю… Тогда же компьютеров ещё не было, были машинистки, машинописное бюро, и мы машинисткам заказывали свои сценарии в пяти экземплярах. И все они расходились. То есть твой «гениальный» сценарий столько желающих испортить находилось… Нет, не могу сказать, что всегда портили. Иногда, наоборот, улучшали, но чаще портили. Иногда потому, что неохота было режиссёру работать, как-то он не вдохновлялся этой темой, иногда у него времени не было: также вот «драмкружок, кружок по фото» – пять сценариев у него, и все надо делать одновременно. Но это было очень хорошее время. У нас был очень творческий коллектив, молодёжная редакция «Факел». (Опять же хорошие люди, вот они тебя и формируют.) Люди, совершенно преданные своей профессии, телевизионной журналистике. У нас была редакция литературного вещания, литрдрама мы называли её: литературно-драматическое вещание. И когда литрдрама что-нибудь такое записывает у себя, какой-нибудь спектакль местного театра (там было несколько театров), мы выходим в обеденный перерыв (у нас был такой специальный корпус с кафе и с буфетом), в очереди стоим, и тут же какая-нибудь дама в кринолине, какой-нибудь мужчина, актёр, в камзоле со шпагой… То есть это было очень интересно всё. Ну, а потом вот… Коломна.
Долго ещё скучали по Горькому? И по чему именно скучали, живя уже в Коломне?
Вы знаете, «скучала» – наверное, это не то слово. Я со своей коллегой по «Коломенской правде», которая сидела визави, напротив меня, как-то однажды разговаривала, она сама из Казахстана, сюда замуж вышла. И мы с ней сошлись на том, что очень долгое время человек не ощущает себя жителем этого места. Ну, он здесь живёт, да, но душа у него там где-то, не тут.
И это тяжело, видимо, да?
Это да. Потом как-то свыкаешься. Нужно очень много знать о том месте, где живёшь, где работаешь. Это помогает. Потому что, когда я всё это узнала… Анатолий Иванович Кузовкин наш, тоже сидели мы с ним напротив друг друга очень долго в кабинете, он мне помог освоиться.
Может быть, работа в газете тоже вам помогала?
Да, да, да. Потому что это же я не на досуге всё узнавала, в работе. Я работала в отделе культуры, а это же обязывает. Тут тебе и история, тут тебе и современность. А у меня были темы: культура, здравоохранение, образование, ну и немножко мне церковь навязывали. Когда у нас с церковью дружба получилась, уже в 90-х годах, мне тем более приходилось что-то и читать, и узнавать, и общаться, и всё такое прочее. Лишних знаний не бывает.
«Тон задавали наши фронтовики»
Как всё-таки вы стали сотрудником «Коломенской правды»?
Сначала я пришла в горком партии, мне сказали: «Нет. Хочешь в Луховицы? Там у них районная газета “По ленинскому пути”. Вот хочешь, давай. Им радиоорганизатор нужен». А радиоорганизатор – это тот, который организует по местному радио передачи. А это так неудобно человеку иногороднему, потому что утром мы бежим все на электричку, чтобы на работу не опоздать… У нас, кстати, там своя компания образовалась. Мы все садились в один вагон с одного входа и общались – все те, кто работал в Луховицах. Целый год я туда ездила.
Всё-таки согласились.
А что делать-то? Надо же как-то работать, денежку-то получать надо. Взяли радиоорганизатором. Мне редактор, тоже очень своеобразный человек, преданный совершенно своей газете, своей профессии, говорил: «Слушай, давай делать так: мы будем в двух экземплярах все заметки, которые в газету пойдут, тебе, а ты их собираешь в папочку, и по радио пускай читают. У нас тут есть человек, который читает. Вот и всё. А ты будешь работать для газеты». «Идёт», – сказала я. Очень даже мне нравилась такая постановка. И что там они читали? Вот я радиоорганизатор, а что они там читали по радио, по местному, я не знаю, потому что у них радиопередачи-то были поздно, когда я уже в Коломне была. Было очень плохо зимой, потому что возвращалась я на автобусе. Это и холодно, и… ну, очень плохо. А здесь редактором был Борис Григорьевич Беловолов. Ему недавно мы 100 лет отметили. И замечательный тоже человек, просто замечательный! Он руководитель был очень хороший, фронтовик. Кстати, когда я пришла в редакцию «Коломенской правды», там много было фронтовиков, людей, которые реально фронты прошли. Борис Григорьевич ранен был тяжело. Связистом он был.
Но всё-таки сам момент, когда вас позвали…
Позвали. Я уж как-то вроде и сдружилась, потому что там ребята тоже были молодые, журналисты. Один выпускник журфака МГУ, другой выпускник архивного института, московского тоже – это же всё-таки образование, и третий был у нас, тоже молодой, – фотокорреспондент. Я узнала, что в Коломне, в редакции погиб сотрудник, заведующий отделом промышленности Миша Беган-Богацкий. И я схитрила. Я стала не только те темы разрабатывать, которые мне редактор поручал, но и сама брала темы, интересные просто для читателя. Например, они открыли цех луховицкой хохломы, лухлома они её называли: зелёное всё было у них, не чёрно-красно-золотое – основные цвета хохломские. Хохлома-то тоже Горьковская область. У нас там практика была, в самой Хохломе, по диалектологии. А луховичане что-то ударились в зелёное, в основном у них зелёный был цвет. Мне не очень нравилось, но дело вкуса. И вот я на целую страницу об этом материал написала, потом ещё о чём-то. Я знала, что луховицкую газету получают в «Коломенской правде», и надеялась, что редактор обратит внимание на меня, и, может быть, мне повезёт. Один раз приезжаю в Луховицы. А меня уже там повысили в должности, я ответственный секретарь. Ответственный секретарь известно, что такое? Ему приносят все писульки, которые корреспонденты создают, и он их правит, расставляет на газетной полосе и в типографию отвозит, там и вычитывает. В общем, это чисто техническая работа, хотя, может быть, правка материала, она и творческая как раз. Но дело в том, что я перебежала дорогу одному сотруднику, который метил сам на это место ответственного секретаря. Но я-то не виновата. Я почему согласилась? Чтобы мне по коровникам не ездить. Ну, не любила я ездить по коровникам, с доярками разговаривать, как-то не лежало у меня сердце. Я согласилась сидеть в редакции и править чужие материалы. А он затаил на меня злобу. И вот однажды я прихожу, и вдруг звонок, снимаю трубку – Борис Григорьевич Беловолов: «Галина Константиновна, мы берём вас на работу». Обращаю ваше внимание на саму постановку: «Мы берём вас на работу». То есть не «Галина Константиновна, а хотели бы вы?» Само собой разумелось, что я хочу и что я прыгаю от радости уже заранее. Оно так и было, конечно, я прыгала от радости.
А как же это связано с ситуацией, что вы невольно перешли дорогу?
Это связано… Правда, я не знаю, каким образом, но я решила, что связано. И Борис Григорьевич мне говорит: «У меня только одно для вас условие: вы можете за несколько дней уволиться?» Две недели нужно было после подачи заявления об увольнении отработать по закону. И я теми же ногами, которые дрожат от счастья, в кабинет к редактору: «Александр Филиппович, отпустите меня. Меня в Коломне берут в редакцию “Коломенской правды”!» У человека меняется лицо сразу: «Конечно, Галина Константиновна, конечно…» Я думала, придётся мне войну какую-нибудь выдержать, долго убеждать… Нет! «Конечно, Галина Константиновна». Я на крыльях любви и счастья! На следующий день бумажки какие-то нужны были: заявление об уходе, обходной лист… Я прихожу дорабатывать свои три дня. И луховицкий редактор Александр Филиппович мне: «Галина Константиновна, зайдите ко мне». У меня сердце падает. «Галина Константиновна, ну вот вы почему хотите уйти-то? Вам чего здесь не нравится? У вас работа хорошая. Ездить вам по коровникам не надо. Вы специалист неплохой, есть где вам своё умение показать, вы для души можете писать материалы. Вам ездить сюда неудобно, ну давайте мы будем вас… (редакция до пяти часов работала, а автобус в шесть, то есть я где-то болтаться должна была, особенно зимой, целый час), давайте мы вас будем отпускать на автобус коломенский до конца рабочего дня за час.» Я думаю, нет, дружок, вот ты сейчас обещаешь, а дальше-то что? И забудешь свои обещания. Я говорю: «Нет, это единственный раз в жизни может так повезти человеку. Александр Филиппович, заставьте за себя бога молить». Ну, в общем, заставил бога молить, отпустил меня. Я прихожу к Борису Григорьевичу уже сюда, в «Коломенскую правду». Сажусь к нему в кабинет на собеседование. Он всякие вопросы задаёт: кто я, где я, где работала, что умею? Ну, как обычно. Он такой человек обаятельный, что вот я прямо сейчас вижу, как он сделал такую хитрую физиономию и говорит: «А говорят, вы склочный человек…» Ну, как отвечать, если вас спросят, склочный вы человек или нет? Я так растерялась, говорю: «Не знаю, со стороны виднее». И вот этот ответ, видимо, его как-то подкупил. Всё, мы с ним договорились, я выхожу на работу в отдел культуры.
Отдел культуры Галина Николаевна Матвеева, вам известная, возглавляла. Она пошла на повышение – замредактора, а я на её место. И началась самая счастливая полоса моей профессиональной жизни. Потому что коллектив там был необыкновенный. Тон задавали наши фронтовики. Попробуй при них какую-нибудь гадость соверши, какое-нибудь лодырничество или чего-нибудь. Правда, брали-то, может быть, и разных, но они уходили, а оставались только те, которые были преданы и профессии своей, и редакции, и очень хорошо понимали, что такое взаимовыручка. Районка – это же не сто материалов на краешке стола у ответственного секретаря: одного материала нет – другой поставил. Это же всегда в обрез, это всегда цейтнот, это всегда нужно. И никогда в жизни у нас не было такого, чтобы кто-то не выручил кого-то, не написал, срочно не сел. «А у меня есть тема, я сейчас быстренько напишу». Или приходишь: «Слушай, вот сорвалась тема, у тебя ничего нету?» – «Сейчас сделаю». Вот такие люди были.
Сплочённый такой коллектив?
Сплочённые, мы жили просто как одна семья. И что-то я так вспоминаю, у нас были фронтовики наши, ветераны, а потом мы – люди примерно одного возраста были. Это в 1980-е годы, мне было 30 с чем-то, и им тоже где-то вокруг того, может быть, у кого-то поближе к 40. Это было необыкновенное время. Все люди были творческие. Ой, как же было хорошо тогда!
«Это были времена творческого взлёта и экспериментов»
Потом наступили 1990-е годы. Действительно, это были ужасные годы. Но не для культуры и не для образования. Это были времена творческого взлёта и культурных работников, и работников образования, учителей. Как же они тогда экспериментировали! Пастила эта наша, она же в те годы зародилась, где-то в 90-х.
Нет, как проект и как музей – это 2009-й.
А сама пастила? Я помню их в баночке, розовенькие таблеточки такие – пастила, мне кажется, в 90-е. В «Лиге» ещё была презентация… Давайте не будем о времени, потому что я могу соврать сейчас. Дело в том, что тогда эти энтузиастки наши решили по старинному коломенскому рецепту возродить эту самую пастилу и стали работать. У них тогда ещё была Ольга Бурлакова.
И есть. Архитектор наш.
И сейчас есть, да? Мы как-то с ней утеряли связь… Архитектор-реставратор – у неё образование такое. Кстати, она из Томска. И они тогда пыхтели днями и ночами, придумывали… Ну, наверняка сразу-то всё не получалось. Я не помню, какое мероприятие было, когда пастилу показали. Неужели презентация этой пастилы?
Может быть, зимний фестиваль «Ледяной дом».
Может быть. То есть какое-то основное мероприятие было другое, и вот на этом мероприятии они презентовали пастилу. Помню, красивая банка, какая-то старинная, которую они наполнили пастилками. Они были похожи на очень большие таблетки, толстенькие, розовые и белые. И они ходили с этой банкой и всем знакомым давали попробовать: «Вот попробуйте, какая у нас получилась пастила». Я прекрасно это помню.
То есть 1990-е годы – время эксперимента для таких людей. Ну и мы, редакция газеты «Коломенская правда», старались соответствовать времени эксперимента. Мы, не побоюсь высоких слов, старались держать руку на пульсе города. Мы во всякие общественные организации входили, а в 1990-е годы (шуваловское время-то было) нас слушали. Нас слушали и слышали. Мало того, «Коломенскую правду» просили поднять тот или иной вопрос: «Вы поднимите, мы потом всё это дело обсудим, вы нам так поможете сделать хорошее дело».
То есть какая-то общественность к вам обращалась?
Не только общественность, а и «Белый дом». Меня лично просил Шувалов пару раз поднять такой-то вопрос». Ему нужно было перед областью сказать, что это надо, что и общественность так думает. То есть он человек-то был дипломатичный и понимал свою ответственность… Главное, в те годы слышали общественность. И обращались. Помню, Шувалов подходит однажды ко мне и к моей подруге Ольге Стружановой. Набирали первый созыв в Общественную палату. Это было в конькобежном центре. Мы сидим на скамеечке рядышком, он проходит по проходу и увидел нас: «Вот, девчонки, в первый созыв я вас в список включил. Обязательно соглашайтесь, не отнекивайтесь только. Нам нужно нормальных людей туда, потому что я понимаю, какие туда прорвутся». А какие туда прорвутся, я тоже понимала, потому что наблюдала первый созыв народных депутатов, совершенно новую власть… Что там было! Что там было – это отдельный разговор. Много просто неадекватных людей. Зачем им нужно было? Хотели почувствовать себя людьми власти, значительными личностями, которых слушают. Ну, в общем, ладно, это совсем другое дело. Мы о том, что в «Коломенской правде» было очень интересно работать.
Кого бы выделили из своих коллег, о ком бы могли отдельно рассказать?
Борис Григорьевич Беловолов, редактор. Газете 108 или 109 сейчас уже лет. Он-то не первый был редактор, естественно. А до него были всякие: Исбах и прочие, Пильняк даже работал в нашей редакции одно время.
Вроде в «Голосе коммуниста» он работал.
А по-разному называлась газета: и «Известия», и «Голос коммуниста». Борис Григорьевич работал в те годы, когда я пришла. И современные отношения в коллективе заложил именно он – традиции взаимовыручки. У нас взаимовыручка до чего доходила? Например, мог ко мне подойти корреспондент сельхозотдела Володя Устинов и сказать: «Галька, слушай, мы тут с Шиловым идём на футбол сегодня. Ты можешь Серёжку из детского сада забрать?» (Сына.) Я говорю: «А мне отдадут?» – «Я позвоню, воспитательница отдаст». Вот взаимная выручка ещё до такого доходила.
Кого ещё назвать? Шилов был очень талантливый журналист, он потом у нас редактором стал. Анатолий Иванович Кузовкин, но в основном-то он ответственным секретарём работал, должность такая, как у меня в Луховицах была. Но он был замечательный ответственный секретарь, он ещё находил время и свои краеведческие странички выпускать, и книги писать, и Героев Советского Союза разыскивать. В общем, он тоже очень такой… Да все у нас, все! Кого-то отдельно назвать не могу, наверное. Это было замечательное время.
«Что меня примирило с Коломной? Народный театр примирил»
Вы чувствовали, как город менялся, по сравнению с 80-ми, в 90-е?
Да, конечно. Я же была членом художественного совета при главном архитекторе города. Я вам скажу, что это не просто такая была организация номинальная, которая ради отчётности существовала. Нет. Мы собирались (с какой регулярностью, не помню, может быть, главный архитектор депеши нам рассылал, всем членам). Туда входили художники – все, кто мог и хотел (у нас же отделение Союза художников какое великолепное было!), и архитекторы, то есть люди с профессиональным архитектурным образованием. Из корреспондентов почему-то была только я. Меня пригласили, наверное, чтобы общественность знала, о чём тут заседает художественный совет при главном архитекторе. Как представителя прессы, скорее всего. Но я обладала ещё и правом голоса. Причём я один раз так им воспользовалась!..
Наложили вето на какое-то решение?
А почему бы и нет? Почему бы и так не сказать? В те годы как раз собрались возрождать Старо-Голутвин монастырь, на стрелке который, около моста. А там же были одни развалины. Там пара церквей и стены сохранились, и башенки – одна сикось, другая накось – их надо было выправлять. И там хотели семинарию устроить. Я не могу сказать, это был церковный проект или светский, если светский, то московские авторы. А тогда перед церковью мы благоговели же, что-нибудь такое сказать поперёк – кто мы такие? А это церковь, а это священники. Стеснялись, потому что не очень хорошо представляли всё это дело, это было нам terra incognita. И вот разработали проект воссоздания Старо-Голутвина монастыря. А на общественном совете как было? Общественный совет рассматривает, обсуждает и своё решение представляет в администрацию города. И вот пришли какие-то незнакомые люди, пришли священники, несколько человек из них я знала, других не знала. В общем, огласили проект. И тишина. Зависла тишина. И все молчат. Молчат профессионалы! Я сижу, думаю: «Ребята, вы чего молчите-то? Вы чего молчите, вы чего не говорите?» Они стесняются. И тогда встаёт метр с кепкой Горчакова и говорит: «Ну всё, убили памятник».
То есть проект был по поводу убийства памятника? Он выглядел так?
Он выглядел так, потому что они такие забабахали здания, шестиэтажные, что эти исторические церковки – они же небольшие все – сразу вообще как-то скукожились, их там не видно среди этого всего. Ну, я встала и сказала: «Ну всё, убили памятник». И после этого как прорвало архитекторов, они стали доказывать, что такую высотность нельзя и т. д. И нашли аргументы профессиональные свои. И завернули этот проект на переработку. Ну, а второй проект – вот такой, какой вы сейчас видите. Так что это «Коломенской правды» заслуга, что там этих небоскрёбов не построили.
Ну, может, не «Коломенской правды», лично вас?
Должна же я скромно сказать! Роль личности в истории… Нет, это я к тому, что художественный совет при главном архитекторе имел вес, был реальным инструментом общественности. Это при вас вот это безобразие строили? С фундаментом часовни Александра Невского здесь, на площади. Вы были на обсуждении?
Нет, нас не приглашали.
А я была. И выступала против. Но времена изменились, и всё изменилось. Нас не слышат, нас не слушают и не делают. Очень много народу было против. И Егоров из «Святогора», из комплекса «Коломенский кремль» был против. Многие выступали, архитекторы в том числе. И вот что сделали. А ведь говорили, что это будет вечно грязное. Саша Сыроватко, археолог наш главный, тоже выступал: «Вы знаете, сколько содержание этого будет стоить? Вы просто не знаете, чтобы там конденсат не собирался, сколько всего нужно. Где город деньги найдёт?» Это Саша Сыроватко, который понимал, о чём говорил. И Сашу не услышали. Ну и вот оно, которое, по-моему, в недоумение всех вгоняет, и неизвестно, что с этим дальше будет. Я ни разу не видела, чтобы кто-то на мостки заходил и что-то там смотрел…
Что ещё вспоминается из 90-х? Всё-таки время было достаточно… тяжёлое.
Я говорю, что это было время экспериментов в образовании. Тогда сколько частных школ у нас возникло! Правда, большая часть благополучно помре. Но учителя перестали быть угнетаемыми чиновниками, они почувствовали себя творческими людьми, они стали собственные методики разрабатывать… Это сейчас их прихлопнули как следует по голове с их отчётностью, они уже нос из этих отчётов вытащить не могут. А раньше они творили! Я в эти школы частные ходила и смотрела, как и что. Это было очень интересно! Тогда пробовали же: коррекционные классы, классы одарённых…
Гимназические…
Классы одарённых сначала. Тогда же было очень много противников: «Мы что, хотим какую-то сегрегацию проводить среди учеников? У нас дети все талантливые, у нас дети все разные». Ну, попробовали классы одарённых, они сразу пошли. А потом не знаю, что с ними стало, может быть, они превратились в гимназические классы. В общем, оскорбляло, видимо, название не очень удачное: одарённых. И классы коррекции. А классы коррекции, я считаю, это очень, очень удачная идея, которая помогает самим детям. Начать с того, что всегда по закону образовательному у нас в классе 28 человек должно быть, чтобы у учителя была ставка, чтобы ему за этих 28 деньги платили. А если будет 27, то плохо. А в этих классах разрешалось иметь, скажем, 12 человек. 12 человек проще научить, чем 28. А если ребёнок сидеть на месте никак не может, у него моторика такая, у него психофизика не готова ещё к школе? Как его научить? А вот так, для 12 человек, чтобы они постоянно работали, изготовить дома задания проще, чем на 28 таких же вертящихся.
А чем удивляли библиотеки, театры? Они как-то проявляли себя, свою свободу? Из того, что, может быть, вас как-то зацепляло и обращало внимание.
Коломенский народный театр – это театр со столетней историей. Кстати, вот вы спрашиваете, что меня примирило с Коломной. Народный театр меня примирил. Я посмотрела, что у них в репертуаре: Островский, Чехов, Шекспир, Мольер. И побывала на спектаклях. А спектакли были очень хорошие! Я пришла, когда Крапивин был главный режиссёр. И актёры – у них же была очень хорошая старая актёрская школа, их учили, как в театральных училищах учат, «старую гвардию», которая уже вся пенсионная, – их же учили как следует, в хвост и в гриву, они же очень многое умели… Ну ладно, сейчас и в настоящих-то училищах не так учат. И потом у нас возник ещё театр «Пилигрим», камерный театр при «Лиге». Это было какое-то вообще новое слово! Они меня подкупили сразу, и Лена Пичугина, и Олег Гаврилин. А какие у них люди! Это сплошной эксперимент всегда.
«”Коломенская правда” дала путёвки в настоящую поэзию, в журналы всесоюзные
При библиотеках у нас были всегда литературные студии, в которых занимались все местные поэты и графоманы. Сначала Кирсанов руководил, это до моего ещё приезда. С Александром Фёдоровичем Кирсановым, нашим поэтом, я была знакома. Он, кстати, был такой… ядовитый немножко. Я помню, приходил и разговаривал со мной каким-то – может быть, я ему казалась девчонкой, – поэтому таким безапелляционным тоном: то, что я говорю, – это истина в последней инстанции. А я была такая… у меня тоже все колючки вверх! И у нас с ним отношения были не очень дружественные, скажем так. Он руководил литературной студией «Зарница», и ещё Олег Кочетков руководил – своей (как-то они делили этих пишущих людей), «Зелёные цветы». И, кстати, из этих студий очень много настоящих поэтов вышло, не только «вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке». «Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик» – так я говорила про графоманов. Кстати, замучили, замучили! И отдел культуры замучили! Одна была такая, уж не буду её по фамилии, Елизавета Яковлевна её звали. Вот она меня мучила! Она мнила себя потомком декабриста – у неё фамилия была как у одного из декабристов. Ей доказать, что это не стихи, было невозможно практически. Она зачастит и всё, не уходит, а мне же работать надо. У меня был в самом тупичке кабинет, и я говорила тем, которые в начале коридора сидели: «Увидите Елизавету Яковлевну, сразу мне сигнализируйте». И вот: «Елизавета Яковлевна идёт!» Я метнулась в кабинет к редактору. Куда ещё деваться-то? В кабинет к редактору метнулась, а она, видимо, видела, что я туда. Она влетает, как фурия. А тогда Борис Григорьевич заболел, видимо, и был его заместитель. Я влетаю и говорю: «Елизавета идёт!» Он говорит: «Лезь под стол!» Я залезаю под стол со стороны его стула и сижу там тихонечко. Влетает Елизавета Яковлевна: «Где она?! Где Горчакова?» Геннадий Павлович говорит: «Не знаю, здесь не было». Вот она по всем кабинетам прошлась, во все туалеты заглянула, всё посмотрела – нет меня, и ушла. Вот так меня Геннадий Павлович Федосеев спас.
Но «Коломенская правда» дала путёвки в настоящую поэзию, в журналы всесоюзные. Вадим Квашнин – это точно мой «выпускник». Он занимался, по-моему, у Олега Кочеткова в «Зелёных цветах». Но путёвку в жизнь в виде подборки стихотворений в «Коломенской правде» дала ему я. Одно стихотворение меня вообще поразило. Ой, я до сих пор помню то впечатление от него! А он (каждый поэт же хочет признания) эту самую подборочку, видимо, вырезал из газеты и послал в «Сельскую молодёжь» (журнал такой был, не знаю, сейчас есть или нет). Он жил на селе, был механизатор, тракторист, другими словами. И эту подборку напечатали, то есть просто повторили. Он меня так зауважал, а я тоже так загордилась, думаю: ну надо же, какого парня-то вырастили! Миша Прохоров, он сейчас работает в краеведческом музее, тоже хороший поэт. Был такой у нас Женя Кузнецов, у него ранний инсульт был, и он писать перестал, а писал очень хорошо. Миша Мещеряков… Это вот всё наша аудитория, люди, которые начинали у нас печататься. А с Мещеряковым вообще было смешно. Они с отцом и с мамой были туристы, по-моему, водники. И Миша сочинял всякие песенки, бардовские в основном, под гитару. Он очень хорошо играет и сам поёт, и бардовские у него песни тоже очень хорошие. А с его папой, с главным врачом нашей больницы, я уже говорила, мы были в хороших отношениях. Он как-то мне звонит и говорит (он меня на «ты» звал): «Слушай, – говорит, – посмотри, как мой-то пишет. Стоящее что-нибудь пишет-то или нет?» Я говорю: «Ну, присылайте, посмотрю». В общем, курьера шлют с подборкой, а в подборке лежат самые слабые, самые… такие бардовские стихи Мишины. Я раскрыла, посмотрела: батюшки! Ну, нечего взять. Звоню: «А другого-то ничего нет? Несите всё». Принесли ещё. И тогда я поняла, что действительно – поэт. Сделала подборку. Вот так Миша Мещеряков начинался у нас в «Коломенской правде». Он настоящий поэт.
Роман Славацкий тоже наш замечательный и поэт, и переводчик, и краевед, и прозаик, писатель. Очень люблю его, кстати, «Мемориал», такая поэма, как он её назвал. Он, по-моему, сам возрастал. Он приходил, конечно, в «Коломенскую правду», мы его печатали, но… заслуга в том, что он стал поэтом такого уровня, – его собственная, он сам себя воспитал. Или, может быть, Борис Архипцев (был у нас ещё такой, инвалид с детства, поэт-переводчик). Они были очень дружны и помогали друг другу в творчестве. Я много раз наблюдала, как это происходит. Они в основном по телефону общались, потому что Борис не выходил, он колясочник. И Роман к нему приходил. Они иногда до скандалов доходили: вот это слово или вот это? Нет вот это! То есть они возрастали в среде такой творческой. Вот эти все люди были с «Коломенской правдой». У Романа есть очень хорошее стихотворение, он написал его, уже когда «Коломенка» стала хиреть, когда её стали угнетать, закрывать и всё такое прочее, посвящено «Коломенской правде». То есть «Коломенская правда» тоже какую-то роль в его судьбе сыграла. Он у нас свои ехидные юмористические вещи печатал, тоже, кстати, очень талантливые, по-настоящему смешные и по-настоящему едкие, пародии в основном. Он молодец был.
А библиотеки… В библиотеках всегда такие труженики работали, они же получали всегда 30 копеек за свои труды, но душу-то они вкладывали, выкладывались все. Так что они молодцы. Краеведческая работа в Королёвской библиотеке была очень хорошая, там собирали все краеведческие материалы об истории Коломны. Библиотеке Лажечникова спасибо за то, что Лажечникова помнят. У них есть фонд редкой книги, очень интересный, кстати.
«Вот такая война в лесу осталась, все следы её – вот они…»
Галина Константиновна, ещё о своём творчестве расскажите, пожалуйста.
Ну, так вся моя газетная деятельность – это сплошное творчество.
Стихи, прозу писали?
Что, вы, что ли, не писали в студентах?! Ну, это студенческие, такие чисто возрастные стихи, я считаю. Где-то они лежат, в записной книжечке записаны. Иногда я посмотрю, вроде всё гладко. Главное – это если есть, что сказать. А если нечего сказать, так рифмуй, не рифмуй… Вот графоманы этого понять не могут. Если тебе нечего сказать, ты хоть обрифмуйся весь, всё равно поэтом не будешь. Книжка у меня есть, но она о поисковой работе, о поисковых отрядах. Она у меня из многих газетных материалов составилась.
Про это расскажете?
Я поехала как корреспондент в 1997 году вместе с поисковым отрядом «Взвод», которым руководил тогда капитан милиции (Виктор Васильевич Камаев – ред.). Он работал в РУБОП – подразделение милиции, которое боролось с организованной преступностью. Он был фанатичный руководитель поискового отряда, и у него в отряде были ребята, которые отслужили армию: один, врач по профессии, хирург, служил на секретных железнодорожных составах, которые возили стратегическое оружие по каким-то там секретным дорогам. Было много ребят, отслуживших в Афганистане, то есть хлебнувших настоящего горюшка и понюхавших пороху. Вот такие ребята. Ну, потом были я, журналистка, была моя дочь, тоже журналистка. Ну, и другие люди… Милиционеры тоже были, несколько человек вместе с Камаевым. Я вообще о поиске никогда не слышала и не видела. А тут меня послали в командировку на несколько дней. Я, когда увидела, что такое в лесу может быть, что вот такая война в лесу осталась, что все следы её – вот они, пожалуйста, смотри, изучай. И что столько народу не похороненного… И как поисковики работают для того, чтобы все останки собрать… Работали истово совершенно, особенно афганцы. Они там на своей шкуре всё это дело почувствовали, друзей теряли. Вот, например, при помощи металлоискателя нащупают каску. А каска на человеке надета. Человек-то весь уже… одни кости остались. А остов уходит под берёзу, и берёза выросла уже большая за столько-то лет, корневища свои распустила. Каска здесь, а остов туда уходит. И вот они этот остов из-под этих корней… Это очень тяжело! Во-первых, копать. Копать много приходится, и глины тяжёлые бывают очень. А в отряде была такая традиция: собирать надо было всё до самой мелкой косточки. Вот, на пальчике показывает, вот эта мелкая косточка, когда разложат, чтобы она тоже была. Вот ищи. Есть специальные люди, которые ищут, где лежит боец, есть специальные люди, которые выкапывают, и есть специальные люди, которые всё это дело просеивают… Но ищут-то в основном, конечно, смертный медальон, в котором заложена бумажка: имя, отчество, фамилия, год рождения, место рождения, адрес семьи, группа крови. Вот такие вещи.
Как раз у них к концу уже вахта шла. Было это в Новгородской области, места Демянского котла, где наши первый раз за всю войну взяли немцев в котёл, в Демянский котёл. И по этим местам они меня провели и показали, какие там укрепрайоны были… Там бетонные стенки навалены, до сих пор валяются, никуда они не делись. И я сразу как-то зауважала очень сильно этих людей, посмотрела, как они себя ведут, как они друг с другом общаются. Я решила, что я тоже буду. Я тогда же Ольге позвонила, сказала: «Оль, на следующий год съезди, посмотри, что это такое». И Ольга на следующий год поехала и тоже заболела поиском.
Это такая коломенская команда, которая вливается уже в общее движение?
Сейчас отряда уже нет. Часть перешла к Ольге Стружановой в «Суворов». Часть, вот как я, уже престарелая. Я уже давно занимаюсь в основном тем, что издаю Книгу памяти. У нас три книги уже вышли из печати: первый, второй, третий том. Видели, наверное, Книги памяти, республиканские и всесоюзные. Они как составлены? Там просто имена, отчества, фамилии, год рождения, место, название части, в которой служил, и место, где похоронен. Или просто пропал без вести, значит, нигде не похоронен. Вот и всё. И следующие уже там: Иванов, Петров, Сидоров, и больше о них ничего. Сначала у нас было: давай и мы так будем делать, да? Всех поднятых мы описывали в этой Книге памяти. А потом я говорю: «Мы же находим родственников, мы же находим фотографии, мы же находим медальоны, в которых имя-отчество можно прочитать». Кстати, Стружанова читает эти медальоны… Ой, как она набила руку и глаз! К ней со всей России присылают медальон прочитать, и она читает. И я говорю: «Давайте делать персональные страницы на тех людей, имена которых знаем. Тем более фотографии же есть, и родственники письма пишут». В общем, когда мы первый раз получали грант, то есть первая книга вышла у нас, и мы уже подали на грант на издание следующего тома, какие они там бывают…
Есть президентские, и губернаторские есть.
Губернаторский, скорее всего. И я защищала наш проект. И этим людям, которые из Москвы приехали, и нашим, из «Белого дома», нашу Книгу памяти передали. Они не видели никогда такого. Особенно фотографии, поисковые фотографии, где сам процесс поиска идёт. Мы стали потом печатать ещё и документальные фотографии. Скажем, если речь идёт о связисте, то мы фотографию какого-нибудь связиста, который со своей катушкой бежит, публикуем. Это всё для родственников делалось, чтобы им было понятно, что такое связист. Потому что внуки и правнуки уже не очень-то понимают, что такое связист, им надо рассказать. Или какие-нибудь гаубицы. У нас стоит одна у музея Боевой славы. Что это за гаубица, зачем она и как она? Их солдат как раз служил в гаубичном полку, чтобы они посмотрели, что такое гаубица. Это всё нужно рассказать. В интернете в основном находим. И мы рассылали нашим родственникам эти Книги памяти. Книга тяжёлая, за свой счёт посылаешь же, на почте взвесят бандеролькой, и эта бандеролька на какую-то определённую сумму вытянет. Ну, ничего, посылали. Благодарности тоже получали. Вот одна из Сибири, из Иркутска, что ли (где-то такая дальняя Сибирь) присылает электронное письмо: «Вы знаете, я показала своему сыну, а у него переходный возраст, и он пофигист такой, и ничто из того, что мне ценно и интересно, ему не интересно. Я сказала: “Полистай”, дала ему Книгу памяти. И он, пока всё не перелистал, не оторвался. Отдаёт и говорит: “Офигеть!” Офигеть – у него это высшая степень похвалы»…
Работали, и с дочерью мы работали, потом перешли в «Суворов», а «Суворов» работал и в Московской области, туда я тоже ездила на раскопки, но в основном – в Ленинградской области, на местах Ленинградского и Волховского фронтов. Это блокада, это попытки снятия блокады, Невский пятачок, Синявинские высоты. Много лет я туда ездила. Ездила мы ещё и, я один раз, правда, на места Сталинградской битвы. Ой, ну там ужас! Там же все сельхозугодья были после войны распаханы, независимо от того, были там люди или не было. Там посмотришь – нарезаны гребни для картошки, картошку не стали сажать, потому что поисковики сказали: «Мы тут будем смотреть, не сажайте картошку». Вот мы приехали, а там эти гребни все белеют остатками костей, плугами перемешанных, передроблёных. Ну, это зрелище, конечно, ужасное. И несколько раз я ездила ещё в Крым. Тоже место такое… Аджимушкай, где погиб Крымфронт в 1942 году весной, целый фронт погиб. Там у меня был свой интерес, там погиб дядя моего одноклассника, которого я хотела найти, но не нашла. А это катакомбы, это подземные всё раскопки. Я тогда руководителем отряда ездила. Боялась, потому что я даже не знала, сколько продуктов получать надо на мой отряд, в котором вот столько-то человек. И как их расходовать, чтобы хватило до конца, даже этого не знала. Меня послали: «Мы тебе поможем». А что поможем? Где Москва, а где мы… Это областной сводный отряд из разных мест Московской области. Как они мне помогут? Правда, приезжали один раз, но это уже под конец, когда я сама освоилась, поняла, что к чему. Тоже очень хороший отряд. Мы так подружились, до сих пор с некоторыми поддерживаем отношения. Это был 2002 год.
Ну вот, больше не копаю. Потом внуки появились, воспитывать их и поливать надо было, заниматься с ними… Я занимаюсь уже только Книгой памяти. Книжку эту, сборник, составила, потом переиздание было этой книжки. Помогала нашим ребятам питерским, которые тоже хотели свою книжку сделать. Я в качестве редактора у них была, приглаживала всё это. У нас там один очень талантливый человек, у которого только профтехучилище за спиной. Но человек он талантливый, вёл дневники. И Стружанова мне говорит: «Посмотри, может из дневников какая-то книжка выйдет». В общем, я сделала из дневников книжку. И Василий тогда, по-моему, гордиться стал, что вот он такой-сякой и книжка у него своя есть. Ну вот, такая поисковая работа. Давно уже не езжу, сейчас и копать силёнки-то не хватит.
«Этот дедушка нарядил в лапти артистов Большого театра»
Галина Константиновна, перейдём к фотографиям.
Сейчас вам покажу одну фотографию (реконструкция полевого госпиталя – ред.). Узнаёте?
Нет.
А внимательно?
А, теперь узнаю! Это вы в Коломне на каком-то событии выступали?
Да, это День города был. И заметьте, кто у нас тут. Вот только не тем концом она сидит, а здесь сбоку у неё, видите, красный крест – такая военная собака в своей попонке. Мы её научили даже к бойцам подползать, к «раненым». Как раз у нас тогда Громов ещё был губернатором, и на этом празднике он подходит к нашей площадке. У нас там «раненые» лежат, и Ольга моя изображает из себя раненую. И Ольга Стружанова собаке говорит: «Где мама? Ползи!» Тихонько на ушко. И та начинает ползти. А Ольга уже приготовила кусочек сыра, который Варька (собака Ольги, дочери Г. К. Горчаковой – ред.) очень любит. В общем, вот ещё у нас какое увлечение, вы спрашивали. Реконструкция. Военно-исторический клуб.
Вы сейчас активно участвуете или меньше уже?
Я Стружановой говорю, что таких престарелых в армии уже не было! Она говорит: были, всякие были! И последний раз на Дне Военно-морского флота она меня заставила переодеться опять. У неё есть такой отдел при её военно-историческом клубе, медсанбат называется. А поскольку у меня медицинское образование, поэтому я главный врач медсанбата, сами понимаете. В общем, всё это и весело, и интересно. А это вот где-то начальные стадии. Мы только-только начали.
В основном в городских событиях участвовали, в Коломне, или куда-то выезжаете?
Выезжали в разные места. В военно-исторических клубах тоже очень интересные люди, потому что они не просто наряжаются, изображают чего-то, они же изучают это всё. И историю обмундирования… Ой, какие же есть мастера! Они тебе скажут, что вот эта вот медаль была в таком-то году на таком вот держателе, а в другом был уже такой вот. Никогда в жизни всё это не изучить, ну такие энтузиасты!
А это вот мы в Аджимушкае, видите, в разработке горной. Все голову наклонили, потому что в рост не встанешь.
Вы сами не фотографировали?
Да раньше фотографировала… А это, знаете, как интересно? В Пановском жили вот эти бабушка и дедушка. И мы приехали, потому что узнали, что её муж, такой уже человек возрастной, сотрудничал с Большим театром в Москве. А что он делал? Песни пел? Нет, не пел. Он плетёт лапти. И он однажды для всего хора наплёл лаптей – заказ такой выполнил. Конечно, нам интересно, мы туда примчались с Имханицким (фотокорреспондент «Коломенской правды» – ред.). Оказалось, что у бабушки-то прялка есть. И она меня учит сучить пряжу, не помню, получилось у меня или нет. Очень хорошие люди. Вот этот дедушка, который нарядил в лапти артистов Большого театра, весь хор нарядил.
Как вы его нашли?
Журналист же такой человек, где-то что-то услышал, начинаешь раскапывать. Самое интересное, что потом, после того, как статья уже моя вышла, дедушка приехал в редакцию и привёз мне вот такие лапоточки. «Ну-ка, – говорит, – дочка (он меня дочкой звал), ну-ка, дочка, примерь. Это я на свою внучку плёл». Ну, у меня 34,5 всегда был размер… Кстати, в этих лаптях у меня дети в реконструкции участвовали, изображали беженцев и эти лапти надевали, сплетённые им…
Вот это кто-то из актёров, что ли. У нас же были великолепные «Лига» и театр «Пилигрим», они у нас созывали такие фестивали международные, дружили с польскими театрами, камерными тоже.
Это рождественские фестивали?
Нет, до того. До того приезжали польские театры, а у поляков же кино и театр всегда считались впереди планеты всей. И, наверное, это фото как раз с того фестиваля. Я с кем-то разговариваю, марионеточку держу. Ой, а какие были у них фестивали! Во-первых, интересные сами по себе спектакли привозили, во-вторых, они мастер-классы устраивали для наших. И наши, из народного театра многие, участвовали в этих мастер-классах.
А на каких площадках были фестивали?
И в «Лиге» в старой, в монастыре, и ещё какая-то была в посёлке Кирова, ДК, наверное. Как-то поляки тогда по-русски умели говорить. Кстати, я вам не сказала, что у нас в университете был тот язык иностранный, который ты в школе изучал, и плюс один славянский на выбор. Обязательно. Ну, я польский учила. И тут поляки, так что нам было очень хорошо общаться. Я говорю, не бывает лишних знаний.
А это мы с космонавтом Тюриным в Звёздном городке. Он же наш, коломенский, и мы, когда приехали, с ним тут и обнимались. А это с Мишей Абакумовым. У нас же великолепное всегда было отделение Союза художников. С Андриякой они дружили. Какие выставки Андрияка делал! Покойный нынче уже. Дима Белюкин приезжал из студии Грекова, хороший человек тоже. Михаил вообще был человек очень контактный. Его очень многие художники, даже из дальних регионов России, очень помнят, очень уважают, очень любят. Он практически и создал наше отделение, причём вот такое сильное, мощное. Многие художники, особенно молодые, по первости ему подражали. И Влад Татаринов подражал, и многие-многие… Мы с Абакумовым сделали несколько интервью, я его тогда спрашивала: «Миш, до тебя вот такого формата, широкого формата, не было ведь работ у нас. Почему ты такие стал писать?» А он мне, знаете, как интересно ответил? Он сказал: «Знаешь, у меня же всё-таки вгиковское образование. Вот у меня панорамирующая камера». Мне так понравился тогда ответ, я его запомнила навсегда. Он был очень хороший человек, очень лёгкий был человек. Ну, и цену себе тоже очень хорошо знал – и правильно. Ой, как же мы с ним ссорились! Ссорились мы на политических основаниях. Он, например, был сначала демократом, потом стал монархистом. Ну, я отпустила пару острых слов по поводу монархизма его, он вскочил на порог: «Да моей ноги больше у тебя не будет!» – и хлобысть дверью! Я не расстроилась, думаю: ну, через месяц, самое большее, вернётся. Всё. Пришёл, и как будто ничего… Очень хороший человек. Вы знаете, как он за своей женой, больной раком, ухаживал? Он же её никуда не сдал, он до последнего её часа за ней ухаживал, кормил её, варил ей. А потом бес в ребро – любовь новая. Последняя, как Тютчев говорил…
Вот такая моя жизнь в Коломне. Очень счастливая.
Спасибо!