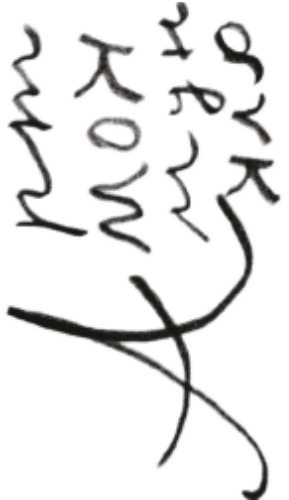«У человека есть то, что называется милым пределом, для меня это Коломна»
Рассказчица: Татьяна Ивановна Кондратова.
Собеседница: Екатерина Ойнас.
Дата интервью: 23 сентября 2024 года.
Мы очень рады, что вы сегодня пришли к нам. Поговорим о вас и о вашем жизненном пути.
Удивительно! Никогда не думала, что такое возможно и будет кому-то интересно!
Очень интересно, на самом деле! И начнём мы с времени вашего рождения: когда, где вы родились – и рассказ о вашей семье.
В девичестве я Булгакова, родилась в городе Наро-Фоминске в 1961 году. Мои родители, Надежда Ивановна Булгакова (в девичестве Лыкина) и Иван Филиппович Булгаков, были настоящими советскими интеллигентами. Я вспоминаю детство: у нас всегда было очень много книг, они выписывали журналы, у нас всегда был журнал «Новый мир», мы всегда выписывали «Юность». Я помню, что с самого раннего возраста, как только я научилась читать, я всё время залезала в эти журналы. Дома была хорошая библиотека, но, к сожалению, дважды пожары уносили всё, что было нажито, и в основном, конечно, вспоминаешь книги – пропавшие, сгоревшие. Я помню из детства тёмно-зелёненькое собрание сочинений Бальзака, Стендаля и, конечно, русскую классику. Дело в том, что мама родом из Воскресенского района, она окончила в молодости Егорьевское культпросветучилище и получила распределение в Наро-Фоминск, работала заведующей Домом культуры. А отец музыкант. Так получилось, что юность у него была военная: он с 1928 года, на фронт не попал, но в армии в послевоенные годы научился играть практически на всех музыкальных инструментах сам. У него даже была стажировка в Москве при хоре Пятницкого и в Наро-Фоминске. Отец, Иван Филиппович Булгаков, долгое время руководил хором при комбинате текстильном. Наро-Фоминск – это город, где были текстильные фабрики, даже в перестроечное время; в 80-е года по центральному телевидению была показана передача, по-моему, «Далёкое близкое» – как раз о хоре, где он был хормейстером.
В хоре были сотрудники этого предприятия?
Конечно. И я помню, он меня маленькую всё время брал на репетиции. Я с детства помнила огромное количество русских народных песен, потому что репертуар был – в основном русские народные песни: и «Дубинушка», и ямщицкие, и бурлацкие песни. Поэтому атмосфера была в детстве – связанная с культурой, с творчеством. И ещё параллельно отец преподавал музыку в школе. Я была ребёнком, у которого папа в школе тоже работал учителем, он преподавал у нас музыку.
То есть у него не было профессионального музыкального образования, он был самоучкой?
Знаете, в те годы это было нормально. Самое главное, что он всегда вёл после занятий большую работу: в школе тоже был хор, мы принимали участие во всяких районных мероприятиях. В то время с удовольствием все ходили на хор.
Моя старшая сестра Ольга старше меня на пять лет, но она до сих пор трудится. Она окончила авиационный институт и работает в Москве инженером в КБ Туполева. Хотя мы уже получили волшебные карточки пенсионеров, но пока что работаем и очень ценим то, что имеем возможность работать.
Если к детству вернуться… Мама вступила в партию, была коммунистом, и её вскоре выдвинули на советскую работу. Она стала председателем большого сельского совета, в который входили несколько десятков деревень, – Новофёдоровского. Поскольку у неё сначала было среднее образование (мы уже были у неё), она пошла получать высшее образование. Она поступила во Всесоюзный заочный юридический институт, окончила и была избрана судьёй. И до конца своей трудовой, допенсионной, деятельности она была судьёй в Наро-Фоминске, на пенсию уходила с должности председателя суда. Выйдя на пенсию, она перешла (мама моя с 1933 года) на работу в управление юстиции в Москве и там ещё достаточно много лет проработала, потом уже пошла на пенсию.
Она поменяла место жительства на Москву? Или это отделение в Наро-Фоминске?
Нет, почему отделение? Наро-Фоминск находится час пятнадцать от Москвы.
То есть она ездила?
Да, так же, как я сейчас из Коломны езжу на работу в Москву.
Мама была заведующей Домом культуры, потом перешла на партийную работу…
На советскую работу, да. Я думаю, именно потому, что она вступила в партию. Ведь люди были очень граждански активные в то время. И я знаю, что к ней относились с большим уважением. Она была председателем Новофёдоровского сельского совета, а потом уже какое-то время её избирали или назначали, я не могу сказать, заведующей отделом культуры Наро-Фоминска. Но это она уже, по-моему, на последних курсах института училась. Избираться судьёй можно было, только если у тебя уже юридическое законченное образование.
Тогда же не было компьютеров, судьи сами отписывали все документы, и мама всё время приезжала домой с папкой, всё время писала. К сожалению, жизнь мамы оборвалась в прошлом году трагически: она не дожила до 90 лет буквально 19 дней. Представьте себе, первый пожар у нас был в 1975 году, потом они построили новый дом, большой, и в прошлом году случился пожар – мама погибла. А отец умер в1995 году от инфаркта.
Семья жила в доме, не в квартире? Вы родились в доме?
Да, я родилась в доме.
Расскажите о доме. Как он выглядел?
Сейчас мне очень трудно обо всём этом говорить, потому что в 1975 году мне было 14 лет. Наш дом сгорел, мы получили квартиру. Но на этом месте они потом отстроили дом. И после смерти отца мама, когда уже вышла на пенсию, сказала: «Я хочу жить в своём доме». Квартира стояла пустая много лет, мама жила в своём доме. К сожалению, причины пожара так и не установлены… Написали: короткое замыкание, – хотя за год мы там меняли проводку, вроде бы, всё нормально было… Мама до конца жизни оставалась очень энергичным человеком. Я, кстати, её за год до этого привозила в Коломну на операцию – хрусталики ей поменяли. Она в последнее время любила читать историческую литературу. Просила меня привезти то биографию Тухачевского, то ещё кого-то…
Как мама пережила трансформации нашего общества, будучи таким заряженным идеологически, партийным человеком?
Мама до конца жизни осталась коммунистом.
То есть верной этой идее?
Абсолютно, да!
Это не поколебало её веру, её убеждение?
Да. Мы в детстве были не крещёные. Хотя её мама, бабушка наша, всё время говорила, что надо бы девочек крестить… «Как бы мне вас забрать…» Но в Наро-Фоминске, в здании храма, который сейчас в центре города, был музей краеведческий. И я крестилась уже в Коломне, поскольку попала в семью, которая уже в советское время была очень верующей, – в семью моего мужа. И я сразу разрешила им окрестить старшего ребёнка – это ещё было в советское время, когда я некрещёная была. Когда я младшего родила, то я вместе с ним крестилась. И потом моя сестра приехала, и тоже в Коломне мы её окрестили. А мама, конечно, крещёная, поскольку она родилась в семье верующих людей, но её веры в коммунизм, в социализм это не изменило. Я думаю, что убеждения любого человека нужно уважать.
Как мама отнеслась к тому, что вы приняли решение креститься?
Я в 30 лет крестилась. Она же не относилась к каким-то фанатичным атеистам. Она вспоминала, как бабушка, её мама, говорила: «Кто знает, что там есть, но что-то там есть». У мамы остался билет партийный, она себя ощущала членом компартии, хотя ни в какие новые организации, зюгановские, она не вступала. Она никогда о советском времени не говорила плохо. Я думаю, что и мама, и отец честно делали своё дело, честно служили и поэтому… И я знаю, что и отца, и маму очень уважали все. Поэтому до сих пор, когда я иногда кого-то встречаю и говорю, что я дочка Ивана Филипповича, Надежды Ивановны, то я слышу добрые слова. Это как-то поддерживает…
«Таня, выпей наливочки. Вот вишнёвая, вот малиновая»
Вы упомянули бабушку. С вами бабушка жила? Мама мамы?
Да. Она приехала из деревни Муравлёво – деревни сейчас этой нет уже на карте Воскресенского района. Она приехала, когда родилась моя сестра. Раньше же не было отпусков послеродовых, и она была с нами. Бабушка была очень-очень добрая, очень сердечная. Помню, я ещё не умела читать, и она читала мне «Судьбу барабанщика» Гайдара. Книжки читала, хотя у неё самой было образование всего несколько классов, так получилось: в семье много детей было. Но она очень любила читать и нам читала книги, поскольку библиотека дома была большая. Бабушка Мария Алексеевна Юткина.
То есть она за вами присматривала? Жила вместе с вами?
Да. Но когда я перешла, по-моему, во второй класс, бабушка вернулась к себе – мы уже сами всё могли. Мама была очень занятым человеком, поскольку много лет была председателем сельского совета, и, конечно, когда она приезжала домой, мы с сестрой старались, чтобы дома всё было приготовлено. Мы многие бабушкины обязанности уже на себя переложили, потому что были уже взрослее. Поскольку мы жили в своём доме, у нас огород был. Сестра моя до сих пор очень любит возиться с землёй. Я люблю, но у меня почему-то не очень получается. У нас с мужем сад, и я каждый год даю себе слово, что он у меня будет не образцовый, но хотя бы приличный. И каждый год потом вырываю крапиву, бурьяны, потому что не успеваю.
Ну, вы тоже занятой человек…
Но даже просто приходить в сад и смотреть на яблони старинные – у нас яблоням больше 60 лет, их сажал ещё дедушка моего мужа! Они, правда, постепенно умирают. У нас такая старая антоновка ещё осталась, прям такая древняя, настоящая. И они высотой как тополя большие!
Это какие сады?
Это сады «Победа», в сторону ЗТС идут сады.
То есть их заводским служащим давали?
Да.
Это практически сейчас район города?
Ну, туда, по-моему, сейчас даже и газ проводят… Но у нас там домик летний, поэтому, конечно, газ там вряд ли нужен…
Что выращивала в то время ваша семья на земле при доме?
Огурцы, помидоры, морковь, свёклу, укроп.
Мы в лес ходили. До сих пор у меня самая большая радость, развлечение – я жду каждый год, когда наступит грибная пора, чтобы сходить в лес. Потому что я помню, что мы с бабушкой ходили в лес, собирали грибы. Сейчас мы тоже ездим с подругой куда-то за Коломну… Я восстанавливаю все силы лесом. Я помню, когда бабушка у нас была, она солила в каких-то бочонках огурцы, грибы. Родители, по-моему, даже банки какие-то закрывали, закаточные были машинки.
С грибами, да?
Нет, не с грибами – с огурцами, ещё с чем-то…
То есть основная переработка с бабушкой шла?
Да, когда бабушка была. А потом я попала в такую семью, где умели всё. И я безумно благодарна бабушкам моего мужа, которые научили меня и пироги печь, и грибы, и огурцы мариновать – в общем, замечательная семья. Как Пушкин писал: «Простая русская семья, к гостям усердие большое». Поскольку у бабушки был свой сад, у моего мужа, там вишни росли, малина, и она делала какие-то наливочки чудесные. Я помню, мы пришли первый раз, меня будущий ещё тогда муж привёл познакомиться с бабушками. Не с родителями (с родителями мы были знакомы), а с бабушками. И мне бабушка говорит: «Таня, выпей наливочки. Вот вишнёвая, вот малиновая». Мне Саша говорит: «Выпей, выпей, там немножко, она сладкая». Я не пила никогда такого! Я выпила глоток наливочки и почувствовала, что мои ноги стали ватными! Это домашнее, конечно, потрясающее! Бабушки были рукодельницы, умницы. Они ещё все в советское время ходили в церковь. Может быть, это связано с тем, что в Коломне всё-таки был действующий храм – Богоявления в Гончарах. И я крестилась потом тоже там, и дети, конечно.
«А вот здесь поставили ёлку немцы…»
Какие у вас впечатления остались от Наро-Фоминска времён вашего детства?
Знаете, Наро-Фоминск – это один из городов, которые встретили немцев в 1941 году и дали отпор. Ведь началась битва за Москву именно с Наро-Фоминска, там ещё есть и Зеленоград, но это севернее, а Наро-Фоминск находится на юго-западе. И мне очень много отец рассказывал, как потом в огородах люди находили… Зима 1941 года была очень лютой, жестокой и снежной. Посреди Наро-Фоминска течёт река Нара. Она течёт и в Серпухове, и в Наро-Фоминске. Этим летом мы там были, она уже превратилась в ручеёк. А в детстве, я помню, она была не глубокой, но широкой. Я думаю, в 1941 году она всё-таки была и глубокой, и широкой, как, допустим, в Серпухове (Нара в Оку впадает). Так вот, немцы заняли один берег Нары, а русские стояли на другом берегу. И немцы собирались отмечать католическое или протестантское Рождество 25 декабря. И в этот день они в гастрономе… До сих пор в центре города есть этот гастроном старый, и всё время, когда мы приходили туда (а мы жили как бы на выезде из города, в деревне Александровка, по сути, село большое – как у нас Радужный), отец говорил: «А вот здесь поставили ёлку немцы перед Новым годом». И 25-го – там участвовала латышская дивизия, и сибиряки были подогнаны – наши начали наступление и немцев выгнали из Наро-Фоминска. Поскольку там шли бои серьёзные, мы, когда в лес ходили, видели ямы, канавы, овраги, буераки – видно, что это было место битвы.
Отец моего отца пропал без вести на войне. В советское время пропавшие без вести не причислялись к числу погибших. Может быть, вы помните или вам рассказывали, что уже где-то в 60-е, особенно в 70-е на домах тех, где были погибшие на войне люди, ставили звёзды – отмечали дома, где жили участники войны или семьи погибших на войне. А у нас на доме не было такой звезды. И семья отца не считалась семьёй фронтовика. Отец говорил, и бабушка моя по отцовской линии, что последнее письмо было из-под Курска. И у меня в книге есть стихотворение «Без вести» – оно про те детские впечатления; конечно, я его написала во взрослом возрасте. Но я помню, когда я сказала, что у меня тоже дедушка на войне погиб (к тому времени это уже было понятно, в 60-е и 70-е годы), мне сказали: «А у вас же нет звезды на доме, значит, не погиб». Я его прочитаю:
Да врёшь ты всё: твой дед не герой –
Звезду-то на дом не прибили.
Картинка из детства всплывает порой
И льдинкою в памяти стынет.
А он под Курском был, воевал.
Может, погиб. Может, в плен попал.
Да что ты всё ходишь в военкомат?
Ходи ты хоть сто лет, хоть двести –
Он просто пропал без вести.
Он просто пропал без вести.
На нашей улице 25 звёзд, домов всего 28.
Подсчёт примитивен, и вывод прост:
Под корень костлявая косит.
Но это-то семьи фронтовиков, живых или мёртвых героев.
Так где ж – на земле или средь облаков –
Пропали другие трое.
Опять вы, бабы, взялись кричать.
Да войте хоть сто лет, хоть двести –
Ваши пропали без вести.
Ваши пропали без вести.
Наш дом сгорел тридцать лет назад.
Потом снесли и деревню.
Но солнце, как прежде, бросает взгляд
На опустевшую землю.
И я точно знаю: на небе всегда,
Пройдёт хоть сто лет, хоть двести,
Ночью должна загораться звезда –
Для тех, кто пропал без вести.
Это стихотворение печаталось в Москве в каких-то изданиях. Это вот прям память о детстве, потому что, наверное, такая несправедливость большая. Я помню, бабушка говорила: «Ну, кто знает, что случилось, может, в плену, может, что…»
Вы как ребёнок ощущали эту горечь?
Да. Второй дедушка, мамин отец, который из-под Воскресенска, Иван Егорович Лыкин – его забрали на фронт в 1941 году, сразу же, в июне или в июле. А через два месяца его привезли комиссованного – у него почки отказали, и он уже умер в деревне, поэтому он тоже не считался фронтовиком. У моей бабушки, которая нас растила, Марии Алексеевны, остались трое детей, и она всю войну работала в колхозе дояркой.
«Во время пожара сгорел мой комсомольский билет»
Вы в Наро-Фоминске получили школьное образование? Какие-то остались истории, воспоминания о школе? Вы любили школу или не очень?
Конечно, школу любили в то время. Я окончила школу рядом, поскольку это была сельская местность. Это была сельская школа, восьмилетняя. Я там проучилась до седьмого класса. После пожара мы переехали в городок Селятино, это уже близко от Москвы – квартиру дали родителям после того, как дом сгорел. И там я заканчивала среднюю школу. Конечно, наша школа сельская, но там были прекрасные преподаватели. Когда я потом перешла в городскую школу, оказалось, что немецкий я лучше знаю, чем те, кто в городе учился. Я сейчас не могу вспомнить фамилию преподавательницы русского языка, звали её Мария Емельяновна, она приезжала из Наро-Фоминска, и у неё были потрясающие уроки. Я потом уже, во взрослом возрасте, вспоминала, что она нам показывала первые образцы, как нужно анализировать произведение. В принципе, школа – это была возможность встретиться с ровесниками, пообщаться, потому что у всех, кто жил в то время в сельской местности, было много каких-то поручений домашних. То есть приходили домой – весна, лето, осень, – надо было что-то вскопать, что-то там ещё… А когда мы переехали, уже у меня другие подруги были. Мы восстанавливались после того, как весь дом сгорел, это было очень тяжело. Это было очень тяжело – после большого дома оказаться в маленькой двухкомнатной квартирке… Тоже школа была радостью. Мне кажется, радостью. Я любила, конечно, литературу, русский язык, но в этой новой школе у нас преподавательница вызывала желание поспорить с ней. И у нас там все упражнялись в том, что доказывали, даже всякие глупости, лишь бы с ней поспорить, потому что всё было по книжке, по конспекту – это вызывало отторжение какое-то.
Знакомые говорили: надо математикой заниматься – и я целый год занималась в вечерней школе при МГУ.
Это когда вы в старших классах уже были?
Да, конечно. У нас последний был десятый класс. Я ездила. Поскольку там час, МГУ – это юго-запад, то доезжали на электричке до станции Очаково (сейчас Мещерская – ред.) на автобусе, до старого корпуса. Занимались на факультете экономики. Я собиралась поступать на отделение экономической кибернетики. А потом я заболела, пропустила занятия… Родители не стали как-то особенно меня за это корить, и я не закончила. Мне было всё равно, куда поступать. Честно говоря, на конец 10 класса мне бы какой-нибудь хороший друг или подруга сказали: поедем в Тверь или в Нижний Новгород поступать в какой-нибудь пищевой или в какой-нибудь сельскохозяйственный или медицинский – я бы поехала. Дело в том, что в советское время, когда сдавали школьные экзамены в 10-м, последнем классе, то сдавали экзамены по всем дисциплинам. То есть это были и русский, и литература, и химия, и физика, и математика, и история, и обществознание, и иностранный язык. То есть сейчас, если ты не записался на нужный ЕГЭ, ты не сможешь потом поменять свой выбор – гуманитарный, естественный или математический. А мы, получив аттестат, могли пойти куда угодно. И я не знала, куда поступать.
Но у меня ещё такой момент: в мою комсомольскую карточку был занесён выговор. Не подумайте, что я была ребёнком-диссидентом или что-то такое сделала, нарушила какие-то законы или права. Это было связано с пожаром: во время пожара сгорел мой комсомольский билет. Я помню: мне было 14 лет, я приехала на заседание в горком комсомола. А в горкоме комсомола работали дяди и тёти – мне тогда казалось, им было лет 30, наверное, но когда человеку 14, то 30-летний человек кажется стариком. Я помню, они мне говорили: вот в годы войны, чтобы спасти комсомольский билет, люди бросались на амбразуру дота!.. В общем, меня довели тогда до просто какого-то, я не знаю… я вышла оттуда…
Подавленной, мягко говоря.
Не то, что подавленной – у меня просто истерика была. Сейчас я, уже как взрослый человек, оцениваю это так: почему ты не погибла, почему ты не кинулась в пожар?!
Это при школе?
В школе все знали, какое у нас горе, какая у нас беда была. А это горком комсомола, который находился в Наро-Фоминске. Всегда был билет, а ещё была личная карточка. И в билете-то ничего не было, а вот в личной карточке у меня был записан строгий выговор с занесением. Там не написано, из-за чего! Когда я заканчивала школу, мне написали, что снят он, но всё равно это было в личной карточке. Мне говорили, что во многих вузах смотрели на это очень…
Это 1977-й?
Это был 1978 год. Конечно, у меня была мечта поступить в университет, в Москву, но я реально понимала, что из-за какой-нибудь ерунды туда не пройдёшь. И моя подруга сказала: «Я подала документы на истфак в Коломну». Истфак тогда был с юридическим уклоном в Коломне – один, наверное, на всю страну, потому что в юридические было очень трудно без всяких стажей поступить. Кстати, мама очень хотела, чтобы и сестра, и я пошли тоже в юридические. Но сестра выбрала авиационный.
Сестра конструктор?
Инженер, они работают в КБ при заводе Туполева. Сестра меня старше, она с 1956 года, я с 1961-го.
«Они сделали нас людьми, умеющими думать»
И вот моя подруга Юлия сказала: «Я ездила в Коломну, такой город…»
Какой, она сказала? Как-то она должна была вам отрекламировать!
Не помню – это было столько лет назад… Она сказала, что такого факультета больше нигде нет – истфак с юридическим уклоном. Но слово «юридический» у меня сразу отторжение вызвало! Потому что мы видели жизнь мамы: человек, который уезжал на работу, приезжал, до полночи сидел… Собственно говоря, потом так же было, когда я в школе работала: приходишь и сидишь, тетради проверяешь! Мне это было совершенно не интересно. А я занималась немецким – тогда репетиторства было, мне кажется, меньше, но у нас был кружок немецкого языка. Когда я училась до седьмого класса в школе, у нас была великолепная учительница, и я на каких-то районных конкурсах первое место занимала – то есть мне нравилось это. И я думаю: поеду я на иняз. Приехала в Коломну, а здесь немецкий был только вторым языком.
Первый английский.
Английский и французский, было два отделения, а немецкий шёл вторым языком. (В том году как раз здесь полгода работала, китайскую литературу вела, и мне дали удостоверение временное, что я доцент кафедры романо-германских языков, хотя я преподавала всё связанное с Китаем.)
Ну, и я посмотрела филфак, сдала экзамены и поступила. Я просто как-то случайно попала сюда, и я ни разу не пожалела об этом. Ни разу не пожалела об этом!
И учась, и потом, во время работы там?
Да. Всю жизнь я считаю, что филфак Коломенского пединститута – это было учебное заведение очень высокого уровня! Мы учились в советское время, но те знания, которые давали нам преподаватели, совершенно не были привязаны к какому-то времени. Я считаю, они сделали нас, они сделали нас людьми, умеющими думать, мыслить, даже какие-то творческие вещи развивали.
Я бы очень хотела рассказать о наших преподавателях, которые у нас были в то время, потому что это великолепные люди! Тогда было деление на кафедру литературы и кафедру русского языка, к сожалению, сколько-то лет назад его упразднили, и у нас теперь кафедра русского языка и литературы, одна. А у нас была кафедра литературы прекрасная!
Ну, вот с кого начать? Наверное, с Константина Григорьевича Петросова. Кстати, в книге «Литературное краеведение» есть мои очерки, посвящённые практически всем этим людям, но я писала в основном о тех, кто сам не только преподавал, но ещё и писал, то есть заявил о себе как поэт: Петросов и Дагуров как поэты, Ингер как переводчик, но стиль его переводов… (кстати, он сам стихи переводил, которые входили в книги, которые он переводил).
Константин Григорьевич Петросов, профессор. Человек с необыкновенным ярким темпераментом. Он преподавал нам Серебряный век. В советское время он нам рассказывал о Гумилёве, мы знали имена Гиппиус и Мережковского. Он вообще был специалистом по творчеству Маяковского. Его лекции были настолько эмоциональны, что когда он говорил, как Маяковский громил мещан и буржуазию, он мог рукой в портфель свой удар нанести! Это, конечно, внешняя сторона, но он был очень серьёзный учёный. И уже потом, когда я из учениц стала его коллегой (я проработала на кафедре почти 25 лет), я понимала, как повезло, что я попала сюда работать, и как повезло, что я когда-то была студенткой этих замечательных людей. Потому что лекции действительно были праздником.
Айзик Геннадьевич Ингер. Мне кажется, об этом человеке можно бесконечно говорить. Англист, переводчик, театровед, человек, какими-то странными обстоятельствами занесённый в Коломну, который регулярно писал для журнала «Театр», который дружил с актёрами театра Моссовета, с актёрами театра «Современник», который перевёл огромное количество английской литературы и который последние дни своей жизни отдал переводу на русский язык «Анатомии меланхолии» Роберта Бертона, которую до Ингера на русский никто никогда не перевёл! А Бертон – это современник Шекспира. У меня лежит дома эта книга… Кстати, Айзику Геннадьевичу Ингеру в следующем году будет 100 лет. Он умер в 2003 году, в 2006 году мы собрали сборник, я была его редактором, составителем, называется «Словами Ингера судьба ко мне благоволила». Этот сборник содержит и его собственные воспоминания о жизни, и воспоминания тех, кто имел счастье быть его учеником. Каждая лекция Айзика Геннадьевича – это был просто спектакль, когда мы не знали, как бы так сделать, чтобы писать, но при этом смотреть на него.
Он что преподавал?
Нашему курсу очень повезло: он у нас преподавал от античной до современной зарубежной литературы практически всё. Наверное, у нас был один семестр, когда Валерия Николаевна Абросимова преподавала нам зарубежную литературу, по-моему, первой половины XIX века, романтизм. А всё остальное у нас преподавал Айзик Геннадьевич, и современную литературу. Ведь тогда многое из современной литературы мы могли услышать и узнать только от него. Не было интернета, это было другое время.
Какие фамилии звучали в то время? Именно из современников, не припомните?
Он нам рассказывал и про Керуака, и очень многое. Многие, пришедшие на филфак, с русской литературой были уже знакомы, начитаны. Во всяком случае, я многое читала ещё в школе – я вообще любила читать, всё детство любила читать. Кстати, на филфаке мы учились четыре года тогда. Это было высшее образование, потом сделали пять, когда я работала уже. Так вот, все четыре года мы читали в основном зарубежную литературу, потому что это было открытие. Это было погружение. И именно по совету Айзика Геннадьевича практически все, кто сразу очаровался (и остался под этим очарованием до конца жизни), начали выписывать журнал «Иностранная литература». Я рассталась с этим журналом несколько лет назад, когда делала ремонт,– просто невозможно, сколько там этих было журналов! – когда мне дали ссылку, что они все оцифрованы сейчас, все материалы можно найти в электронном виде. Просто очень много места занимали они, и с журнальной литературой пришлось дома расстаться. Но это тоже был путь в какие-то другие сферы, которые раньше параллельно существовали. Уже в последние, скажем, годы жизни для меня таким новым путём стал Восток, Китай. Получилось, что я теперь преподаю китайскую и корейскую литературы.
В то время как было с литературой, с доступом? Вы стали выписывать журнал, а вообще-то ходили в библиотеку за этой литературой, тем более иностранной?
Вообще, конечно, я была очень удивлена в прошлом году: по каким-то делам я зашла в наш теперь университет, в библиотеку и в читальный зал. Там стоят компьютеры, и я увидела, наверное, двух или трёх студентов, которые сидели за мониторами. Я училась с 1978-го по 1982 год, у нас, как правило, было три или, редко, четыре пары, но вот заканчивались пары – многие даже на переменке ещё бежали в читальный зал, что-то брали и занимали стол, потом бежали на последнюю пару, чтобы после последней пары сходить пообедать в столовую (мы же жили в общежитии) и потом уже занять своё место законное и сидеть до девяти вечера, до закрытия. Читальный зал для меня, для многих – это был дом родной. То есть пары заканчивались, и в читальном зале мы делали уроки, но больше всего, конечно, мы читали. Да, что-то было в библиотеке, можно было взять с собой. Мама активно всегда покупала всё это, но та сгоревшая библиотека 1975 года, конечно, уже не была восстановлена, но все равно уже к 1978-му, за эти три года, уже у нас дома опять были книги. Что-то я из дома привозила, что-то мама могла брать в библиотеках Наро-Фоминска для меня. Но читальный зал – это была наша жизнь.
«Созвездие преподавателей»
Конечно, были какие-то и комические случаи. Когда мы поступили, на нашем курсе училось большое количество ребят из Чечни. Дело в том, что пока у них не открыли педагогический институт или университет в Грозном, многие города России им выделяли по 20 мест.
Какие-то квоты были, да?
Да. Я хорошо помню наш набор – 75 человек, и из них 20 были ребята из Чечни. Они приезжали, что-то здесь формально сдавали, но потом они поступали, то есть их и привозили прямо вот на эти места.
Это девушки, юноши?
И девушки, и юноши. Мы с некоторыми дружим до сих пор. Нашей преподавательнице Галине Николаевне Левицкой в прошлом году была 90 лет, мы делали фильм о ней, так вот чеченцы прислали поздравления. Мы встречаемся иногда и в Москве, кто-то приезжает, то есть мы общаемся. Я не говорю, что со многими, но там была потом Чеченская война, которая тоже очень многое определила, поделила, кто-то погиб, кто-то с одной стороны, кто-то с другой, но с некоторыми мы дружим, потому что это люди трезвого ума и чистой совести.
Они остались в профессии?
Да, очень многие. Наши ребята не сильными были студентами, но один – директор школы, другой сотрудник гороно, который едет его проверять… У нас были хорошие, очень добрые отношения, мы жили дружно. На первом курсе в общежитие нас поселили – две девочки русские, две девочки чеченки.
Но я хотела рассказать смешной эпизод, который связан с читальным залом. Раньше было такое явление, как подготовительный факультет, рабфак он назывался: те, у кого был рабочий стаж, могли за год поступить на этот рабфак и готовиться к поступлению на первый курс. И вот у нас были те, кто с этого рабфака, – они уже знали читальный зал, что это, как. И там был один наш чеченец, Магомед. Мы приходим – Магомед всё время сидит в очках и читает. На следующий день Магомед уже сидит и читает. И потом кто-то подошёл и увидел, что он читал журнал «Крокодил»!
А вообще среди ребят, девчонок из Чечни было очень много тех, кто серьёзно, хорошо учился. Они потом в школах русский язык преподавали. Мы общались в прошлом году, Эсет Дербичева присылала от всех поздравления. С Аднаном Гучиговым у меня есть студенческая фотография, где мы стоим – Аднан Гучигов, я и Сергей Иванович Патрикеев (он тоже в нашем институте, потом на нашей кафедре работал долгое время, кандидат наук, доцент). Мы учились в одной группе все, на фотографии стоим, нам по 20 лет.
К преподавателям если вернуться, то, конечно, Айзек Геннадьевич – это для нас была легенда, недосягаемая величина. Поражало то, что он об очень сложных явлениях и зарубежной литературы, и литературы вообще (он нам ещё преподавал выразительное чтение, блестяще – у него было театроведческое образование) он умел говорить очень просто и доступно. Мне кажется, атмосфера обожания вокруг его имени была именно от этого. Он очень много знал, он нам читал на разных языках стихи, и мы знали, что он переводит, мы видели книгу Джонатана Свифта «Приключения Гулливера» со вступительной статьёй Айзика Геннадьевича Ингера. Голдсмита, Смоллетта он переводил, выходили эти тома (в серии «Библиотека всемирной литературы» – ред.) – мы это знали, конечно, он для нас был такой легендой и такой величиной.
Но он был, так скажем, одной из ярких звёзд, а вообще это созвездие преподавателей! Оно великолепное, оно потрясающее!
Например, у нас преподавал Александр Петрович Ауэр. Это человек, который создал Пильняковские чтения, во многом благодаря его стараниям имя Пильняка стало в Коломне известно. К сожалению, табличку с дома Пильняка сняли, это очень печально… Но Александр Петрович занимался не только Пильняком. Это известный тютчевед, фетовед, он занимался русской драматургией XIX века, в частности, у него замечательные работы, посвящённые Сухово-Кобылину, он занимался Тургеневым. И это был человек немножко, так сказать, другого направления науки. Айзик Геннадьевич, мне кажется, с высоты и возраста своего, и, кстати, прошедших лет войны – Айзик Геннадьевич был на фронте рядовым… А Александр Петрович ещё был восхитительно молод, ему было 30 с чем-то лет. И он относился к студентам без снисхождения. Вот я вспоминаю сейчас и думаю, что это же просто методическое какое-то педагогическое открытие. Он относился к нам, восемнадцатилетним, девятнадцатилетним, двадцатилетним, как к серьёзным коллегам-филологам! И он говорил: «А читали ли вы последнюю статью в “Вопросах литературы”?» Так, знаете, вот походя на перемене идёт!.. Что ты делал дальше? Ты бежал в читальный зал, ты находил эту статью в «Вопросах литературы» и ты её читал. Это был человек высочайшей культуры общения, с необыкновенным уважением к людям. Я вообще не помню, чтобы он кого-то как-то обидел. Он даже замечания делал в такой форме, что человек просто испытывал желание всё переделать, поскольку вот этот его, с одной стороны, демократизм, а с другой стороны – вот эта высокая культура общения… действительно настоящий интеллигент… конечно, делали его любимым преподавателем. Нам тоже повезло: он у нас на первом курсе читал устное народное творчество, древнерусскую литературу, потом первую треть второй половины XIX века, вёл у нас большое количество спецкурсов (я ходила к нему на тютчевский семинар, он по Фету делал семинары). Конечно, он оставил необыкновенный след в наших душах, не только в моей, но когда мы встречаемся с однокурсниками (к сожалению, Александра Петровича не стало, царствие ему небесное), у всех воспоминания, связанные с высокой культурой общения настоящего учёного со своими студентами. И, кстати, Александр Петрович после первого курса руководил фольклорной практикой: мы собирали фольклор по деревням – и тоже это что-то было необыкновенное.
«Хороший студент поймёт намёк»
Расскажите, кстати, интересно, сейчас же эти практики практически уже уходят.
Нет, они все есть в программе. Знаете, в какой-то один из последних годов, который я работала в Коломне, мне поставили в нагрузку фольклорную практику, и Наталья Геннадьевна Никитина предложила обойти Посадскую улицу и поговорить с жителями домов на Коломенском посаде – что они помнят о тех, кто раньше жил в их домах. И мы две недели ходили, записывали. В интернете, по-моему, есть истории Коломенского посада. Это печаталось в сборнике «Лиги», кажется…
Это какой год?
Это был, наверное, 2010-й. Потом Виктор Семёнович Мельников перепечатал этот материал в «Коломенском альманахе». Я помню, мы тогда пришли к Виктору Васильевичу Камаеву, кузнецу, и он очень много нам рассказывал, чаем поил всех студентов… Каждый какие-то сведения дал, потом всё это обобщили. И, кстати, тогда Наталья Геннадьевна нам спецзадание давала, чтобы потом собрать этих жителей и сделать какое-то мероприятие. Делали встречу уже в Музее пастилы.
В Москве практики есть, но у нас там немножко другое направление они имеют, но на филфаке фольклорная практика обязательно должна быть.
Мы выезжали на автобусах. Одно я помню название деревни – Грайвороны. Там была старая женщина, которая пела нам песни. Потом мы эту работу продолжили, когда Владимир Александрович Викторович начал свой проект в Даровом. И я со второго года в течение, наверное, семи лет со студентами каждое лето ездила и работала в Даровом. И тоже у меня есть «Легенды и мифы Дарового». Но там мы под другим углом зрения фольклор собирали. Вы знаете, что сам Фёдор Михайлович верил, что отец его был убит крестьянами как жестокий помещик, хотя официальная версия – апоплексический удар. И мы, записывая воспоминания тех, кто жил в Даровом, в Моногарове, в Чермашне (деревни, которые связаны с именем Достоевского), заодно спрашивали: а что знают современные жители о том, как он был убит? Они же потомки тех, кто жил там.
Да, там много старожилов.
И они нам рассказывали, причем, чем больше, очевидно, человек смотрел телевидения, всевозможные современные детективы, тем остросюжетнее были рассказы! Это тоже всё опубликовано, и в интернете есть – «Легенды и мифы Дарового».
Да, и вот эти наши экспедиции фольклорные с Александром Петровичем Ауэром тоже нам очень долго запоминались. Иногда кто-нибудь говорил: «Ой, да, прекрасно поёт, много старых песен знает!» И выходит какая-нибудь старушка – и что-нибудь из репертуара Аллы Пугачёвой исполняет! Были и такие моменты.
Конечно, я ещё не о всех преподавателях сказала. Когда мы учились на втором курсе, в институт приехал работать из Нижнего Новгорода Владимир Александрович Викторович. Я так понимаю, что он в то время был ещё молодым человеком, наверное, ему не было 30 лет. У него была другая манера преподавания. Все его лекции были обязательно с каким-то проблемным узлом, который он завязывал, потом начинал раскручивать. И, честно говоря, он завораживал своими лекциями! Потом уже, когда я пришла работать, я всё равно ходила к нему на лекции, потому что он тогда пришёл ещё молодым человеком, а здесь он уже был опытным преподавателем. Конечно, лекции Владимира Александровича – это высший пилотаж, так можно сказать, такое развитие темы для аудитории, методика донесения какой-то идеи. Он человек необыкновенно широких знаний, глубоких знаний. И, конечно, его лекции тоже пользовались неимоверным уважением. Правда, на первом экзамене было очень много у него «двоек».
Лютовал?
Нет, наверное, он относился к студентам пединститута как к студентам университета. Если учесть, что у нас много было ребят из Чечни, много ребят, которые шли по направлениям из сельской местности, чтобы потом преподавать, может быть, не очень высокий уровень иногда был (не у всех, конечно, у меня замечательные однокурсники, которые потом стали и учителями высшей категории, и кандидатами наук). Университетский и институтский уровни… сейчас, мне кажется, это одинаково, а в советское время всё-таки были разные. И вот одна группа сдавала – у них были все «двойки» и несколько «троек», и все, конечно, очень боялись. Я могу с гордостью сказать, что я на этом экзамене получила «пятёрку»! Я помню даже вопросы, которые задал мне Владимир Александрович!..
Что он преподавал на втором курсе?
У нас он преподавал первую половину XIX века: Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. И я ходила к нему на семинар по Достоевскому. Мы уже были второкурсниками. В первом семестре у нас вёл занятие Георгий Васильевич Краснов – он учитель Владимира Александровича, ну и всех нас учитель. У Георгия Васильевича была своя манера преподавания: он делал ставку на то, что хороший студент поймёт намёк и сам где-то что-то разыщет. И он постоянно приходил на занятия, знакомил нас с большими пластами библиографии. Он говорил: «Вот в этой книге вы найдёте…» Понимаете, с потребительским отношением к лекции на таких занятиях многим извлечь было нечего, потому что обычно студент хочет услышать материал, переварить, а Георгий Васильевич – он источник. Это то, собственно говоря, к чему сейчас пришла практика ориентированного обучения: узнайте, где это лежит, и возьмите это сами.
Георгию Васильевичу мы были очень благодарны за то, что он объявил нам на третьем курсе: есть возможность сдать экзамены досрочно – поехать работать экскурсоводами в Ясную Поляну.
«Какое счастье, что здесь работают те, кто лично знал Толстого!»
Лето 1981 года – это было необыкновенное лето. Ещё в мае, когда уже началась подготовка, мы все экзамены сдали. Нас было, по-моему, пятеро. Мы приехали, и там была ещё группа студентов из Запорожского университета. Мы жили в самой Туле, в общежитии какого-то техникума. Вместе с сотрудниками штатными на какой-то площади (теперь уже не помню – это 1981 год был, это сколько же лет-то прошло, это 40 с лишним лет!) мы садились в автобус, нас везли до Ясной Поляны. Первую неделю нам дали возможность поучиться: мы ходили в музей, смотрели, причём открыли для себя то, чего вообще не знали никогда ни о Толстом, ни о Ясной Поляне. Я до сих пор, когда вижу фильм «Война и мир», вспоминаю, как я увидела в Ясной Поляне первые иллюстрации (не помню сейчас фамилию художника), которые Толстой одобрил, и как там изображён Пьер Безухов. Ему же там 20 лет! Мы на это вообще внимания не обращали. Вы помните Бондарчука, который играет Пьера Безухова? Такой глубоко за сорок мужчина. И я помню: как же это так?! Я потом стала перечитывать «Войну и мир», стараясь вообще выкинуть фильм из головы. В советское время ведь мало было фильмов. Всю русскую классику, если она не притормаживалась на телевидении, как, допустим, «Преступление и наказание» (его сняли и потом как-то уже мало показывали, начали показывать уже в перестроечное время)… А «Войну и мир», наверное, два раза в год показывали по центральным каналам. Поэтому до того момента, как в каком-то классе мы читали этот роман, мы наизусть знали не только имена всех героев, но и все ситуации. И вдруг Пьер… Пьер Безухов – это мой любимый герой русской классической литературы. Я объясню, почему, что есть в его характере, за что я считаю его любимым – это желание всё время что-то делать для других, это скромность, это верность: помните, он женат, но он любит Наташу, и он говорит: «Вот если бы я был не я, а прекраснейший человек, я бы тотчас же на коленях просил вашей руки»… И то, что он сделал Наташу счастливой по-настоящему, и масса качеств!..
Так вот, я в Ясной Поляне впервые поняла, что надо забыть образ, который создал Бондарчук. Потому что психологически, на уровне вербальном – там всё точно. Но ведь визуальный уровень – он сильнейший! От него ведь не избавишься! Если ты увидел этого пожилого дядьку, как мы, 15-летние, – вот так и представляли Бондарчука Пьером. Поэтому Ясная Поляна, конечно, дала очень много. Я знаю, что к этой практике ещё Галина Николаевна Левицкая тоже руку приложила, спасибо, она, по-моему, туда привезла студентов на экскурсию, и потом они с Георгием Васильевичем договорились, что пока тульские студенты сдают экзамены (они туда приходят работать в июле, в августе), придут студенты из других вузов. И вот много лет так было. Я знаю, что Анатолий Валентинович Кулагин, он немножко постарше меня, тоже ездил работать экскурсоводом.
То есть это уже были постоянные связи института и музея?
Да. И вот, отработав там месяц, я спросила: а можно ещё остаться? Они сказали: да, оставайтесь. Там так смешно ещё получилось: последнего секретаря Толстого звали Валентин Фёдорович Булгаков. А моя девичья фамилия Булгакова. Там всегда экскурсоводов представляют, и однажды я вела экскурсию, и какая-то женщина кидается и говорит: «Какое счастье, что здесь работают те, кто лично знал Толстого!» А мне говорят: «Молчите, молчите! Пусть они думают, что вы его…»
Отработав в Ясной Поляне, я думала, что самая замечательная профессия в мире – это экскурсовод. Причём уже много позже, когда я читала Сергея Довлатова «Заповедник», я понимала, как много там общего с тем, что мы переживали! Только Пушкина надо поменять на Толстого. Потому что у нас один был молодой человек, остальные были девушки, нас было пятеро, по-моему. Это было чудесное лето! Мы окунулись в мир не просто литературы, а какой-то жизни литературной. Там удивительные люди работали, они очень щедро делились. Мы в первую неделю могли бесконечно ходить по их экскурсиям, сидеть в музее, в библиотеке, составлять свои тексты. Честно говорю, как нас выпускали потом на большие экскурсии (потом мы уже вели и иностранцев, и группы из Москвы, из Питера). Первая экскурсия. Приезжают – культпоходы, знаете, были – какие-нибудь сотрудники колхоза «Красный путь». И ты ведёшь экскурсию. А в Ясной Поляне анфилада комнат – из одной в другую, из одной в другую, они все проходные. А за дверью стоит сотрудник музея и слушает. Если бы сотрудник стоял здесь, среди них, ты бы, наверное, начала слегка заикаться, какой-то дискомфорт ощущать. А от того, что всё это было за дверью, никто не знал! Я хорошо помню – Людмила Васильевна, женщина, которая меня прослушивала. И когда я закончила, она сказала мне, что у меня была одна ошибка: тётушка была не по материнской, а по отцовской линии. И потом меня стали ставить на более серьёзные группы: приезжали из разных стран, с переводчиками…
Большая была посещаемость музеев в ваше время?
Вообще необыкновенная! Так и сейчас, наверное, то же самое.
И будние дни, и в выходные?
Да.
Занятость у вас была плотная?
Да, мы туда приезжали и, пока день не заканчивался, вели все экскурсии.
А как быстро вы наработали опыт?
Вот представьте себе: неделю мы ходили на экскурсии, сидели, слушали. И уже через неделю мы вели экскурсии. Причём мы вели экскурсии и по дому-музею, и по литературному музею. Ну, нам-то, филологам, которые только что сдали Толстого, особо-то сложного не было ничего, потому что мы послушали экскурсии. Конечно, тогда не было диктофонов, чтобы можно было записать эти экскурсии, – мы просто их слушали, что-то конспектировали.
«Боже мой, они чистые, как вода с гор!!
У нас были прекрасные преподаватели на кафедре русского языка… Никого я по литературе не забыла? Айзик Геннадьевич, Георгий Васильевич, Константин Григорьевич, Александр Петрович, Владимир Александрович… Позже, мы учились уже на старших курсах, пришёл преподавателем на кафедру литературы Анатолий Валентинович Кулагин. Он у нас ничего не вёл, и какой это… великий преподаватель и большой учёный, я открыла уже, когда я работала на нашей кафедре.
А тогда он был аспирантом, видимо, когда пришёл к вам?
Да, он, наверное, учился в аспирантуре или окончил аспирантуру. В общем, я когда училась на первом курсе, он учился на четвёртом. А вот когда мы учились на четвёртом, он уже пришёл, но у нас он ничего не вёл. Также пришла работать на кафедру литературы Марина Ивановна Никола. Я помню, что пришёл Айзик Геннадьевич и сказал: «На кафедру литературы взяли молодую девушку, она знает латынь и древнегреческий». Но опять же с Мариной Ивановной мы познакомились, когда я стала работать, потому что мы учились на четвёртом курсе, и она у нас ничего не вела и не читала. Сейчас я восхищаюсь этой женщиной. Она заведует кафедрой зарубежной литературы в Московском педагогическом государственном университете, это бывший Ленинский. И, конечно, это очень серьёзный исследователь, англист. Она многие годы вела и ведёт, по-моему, до сих пор аспирантуру в Коломне. И после смерти Александра Петровича, который кроме Пильняковских чтений учредил конференцию, которая называется «Поэтика и компаративистика» – он хотел, чтобы коломенские студенты общались со студентами московскими – Марина Ивановна эту идею подхватила. И каждый год студенты МПГУ и студенты Литературного института, я к ним теперь присоединяюсь, привожу из МГПУ (я работаю в Московском городском педагогическом университете), в память Александра Петровича мы эту конференцию продолжаем проводить. Марина Ивановна, конечно, человек тоже великих знаний и величайшей души, и величайшего таланта организаторского. И её лекции тоже необыкновенные и творческие, и прекрасные.
Вы упомянули, что было разделение на кафедру литературы и русского языка. А вы выбрали направление литературы?
Нет, подождите: филфак был один, но на филфаке были две кафедры. Это не значит, что студенты делились. Галина Николаевна Левицкая ещё тоже была на нашей кафедре литературы, она преподавала методику. Мы, студенты, познакомились с ней в последний год обучения. Мы ходили вместе с ней в школы – она показывала нам лучшие уроки учителей. Галина Николаевна всё время сотрудничала с журналом «Литература в школе». В прошлом году отмечали её юбилей, и мы ей подарили фильм, снятый о ней, где большое количество выпускников из разных частей нашей страны обращались к ней, поздравляли её. И она вспоминала о своей молодости. Я делала для газеты репортаж о ней. Галина Николаевна показала нам, что одно дело – знать литературу, а другое дело – уметь эту литературу преподнести. И, может быть, не сразу вообще мы это поняли, потому что всё-таки в юности больше чистая филология увлекает. Вот когда потом в школе оказались, то стало важно, как сделать так, чтобы это было всем интересно, нужно, чтобы это запомнилось.
Я хочу ещё сказать о преподавателе кафедры русского языка – Геннадий Владимирович Дагуров. Когда мы учились (стыдно об этом вспоминать!), мы не воспринимали очень серьёзно его… Нет, мы воспринимали его серьёзно как преподавателя: у него такие были чёткие лекции, у него маленький был блокнотик, всё, что нужно, мы записывали, учили. Он бурят, но он великолепно знал русский – теорию, практику русского – лучше…
…Любого русского.
Да, совершенно верно! Но мы не знали в то время и узнали об этом очень поздно, что, оказывается, Геннадий Владимирович Дагуров – один из основоположников бурятской поэзии, письменной поэзии, что он перевёл бурятский эпос на русский язык, что он дружил с известными поэтами 1930-х годов. И у него такая биография, что можно остросюжетный фильм снять! Его сын, Владимир Геннадьевич Дагуров, известный советский, российский поэт, к сожалению, уже ушедший из жизни, в своё время всё-таки заставил его какие-то мемуары написать. Он мне подарил эти мемуары, и я, когда всё это прочитала, была потрясена! Потому что мы воспринимали Геннадия Владимировича как строгого, педантичного, немножко чудаковатого, он любил так над всеми подшучивать… Но мы не знали, что он воевал, причём очень серьёзно воевал, что у него до войны была такая бурная биография – он политическим деятелям письма писал, чуть не был арестован… Кстати, в «Синей книге» есть о Геннадии Владимировиче материал – все, кто потом прочитал из наших, говорили: мы не знали, что перед нами поэт, такой масштаб личности.
Были замечательные преподавательницы. У нас была просто очаровательная Наталья Петровна Руднева, кандидат наук. Я вот, кстати, называла всех наших литераторов, я не говорила: профессор – профессор Петросов, профессор Викторович, профессор Кулагин, профессор Ауэр, профессор Ингер… Наталья Петровна была так же, как и Дагуров. Дагуров, я помню (я уже работала в институте), защитил докторскую, когда ему было около 90 лет. А так он был тоже доцентом, кандидатом наук. Наталья Петровна Руднева – женщина необыкновенного такта, необыкновенной культуры, знаете, какой-то культуры прошлого века. Она у нас преподавала старославянский язык. Она была немножко рассеянна, и в этом было её очарование. Мы её обожали. Да, она могла очень многое забыть, но она создала диалектологический кружок, она и диалектологию тогда вела. Я ходила и в диалектологический кружок тоже. Мы были во многих городах, потому что ей хотелось, чтобы мы сами послушали эти говоры. Мы ездили в Псков, мы ездили в Орёл, мы много куда ездили! И мы бродили по этим деревням, записывали что-то… Помогала ей Галина Витальевна Горбачёва. Галина Витальевна потом много лет была деканом филологического факультета. Она у нас не вела русский, но она тоже была само очарование. Вообще, настолько у нас женщины всегда прекрасные были на филфаке! У нас работала Лидия Аркадьевна Яковлева, про неё ходили легенды, говорили, что она «из бывших». Её отец был полковником Белой армии (не знаю, может быть, это и легенды!). Она была уже в достаточно преклонном возрасте. Всё то, что Наталья Петровна Руднева в старославянском языке теоретически показывала и рассказывала, мы часто просто смотрели и слушали у Лидии Аркадьевны. Такое впечатление, что она вообще на нём говорила с младенчества! У неё был талант методический, она настолько хорошо всё это объясняла! И, конечно, этого предмета все боялись – старославянского, потому что всё-таки мёртвый язык есть мёртвый язык. Но для неё он был живой. Она была очень сердобольным человеком. Я думаю, что если меня услышит кто-то из бывших студентов из Чечни, они все скажут: да, Лидию Аркадьевну называли просто матерью всех чеченцев! Она была одинока, но у неё мама была, ещё более престарелого возраста, у неё не было в таком смысле семьи. И она всё время их опекала, угощала. Она говорила: «Боже мой, они чистые, как вода с гор! Им трудно привыкнуть к нашей жизни». И они все тоже, я знаю, платили ей большой любовью: уже заканчивали институт, приезжали к ней всё время…
Я поняла, что забыла рассказать ещё об одной женщине с кафедры литературы. Это Валерия Николаевна Абросимова. Она тоже была зарубежницей, но круг её интересов касался и русской литературы. Она сейчас не работает в институте. Она была типом архивного работника, то есть всё свободное время проводила в архивах, она всё время выискивала какие-то интереснейшие документы, связанные с историей литературы классического периода. Она их комментировала, публиковала, она всех нас тоже старалась привлечь к этой работе. Благодаря Валерии Николаевне я познакомилась с творчеством Льва Львовича Толстого, сына Льва Толстого, который не был, как считают, так талантлив, как отец, но он писал очень много детских рассказов (я один период здесь преподавала детскую литературу). Валерия Николаевна тоже часть нашей кафедры. Был какой-то период, когда её обвинили, по-моему, в связях с диссидентами, это было советское время, и она вынуждена была уйти из кафедры. Потом она вернулась. Потом она ушла работать в университет культуры. Сейчас она, я думаю, на пенсии, по-моему, в Нижнем Новгороде. Это тоже очень необычный, интересный человек.
Потом, когда я вернулась на кафедру, здесь был тот момент, когда ты понимаешь, что преподаватели, перед которыми ты робеешь, всё равно твои коллеги, и надо очень стараться соответствовать. Так получилось, что после института я поработала в школе достаточное время. Хотя, когда я заканчивала, Александр Петрович предлагал мне поступать в аспирантуру (у нас тогда не было аспирантуры – в областной педагогический имени Крупской). Я, наверное, подвела Александра Петровича – вышла замуж.
Сразу же после института?
Да. Я уехала по направлению в Чехов, но потом вышла замуж, вернулась в Коломну.
«Он приехал с идеями сделать школу прекрасной, свободной»
В Чехове работали в школе?
Нет, в школе я проработала совсем немного, к сожалению, меньше полугода. Я вышла замуж и вернулась в Коломну. И в Коломне в школу я сразу не могла устроиться, потому что не было мест – я вернулась посреди года. Я проработала полгода в группе продлённого дня школы № 8. Но всё равно там были замечательные учителя (я на практике когда-то была в этой школе): Маргарита Леонидовна Симоянова, Валентина Алексеевна Литкова, директор школы. Чудесные люди! Они меня помнили как практикантку, и так получилось, что я была у Маргариты Леонидовны, у которой мой муж учился потом. Это уже мы потом выяснили. Я проработала в группе продлённого дня немного, а потом ушла в декрет. Когда уже вышла, то открыли школу № 17, в 1984 году. И я там проработала до 1991 года. Положа руку на сердце, скажу, что это очень счастливые были годы моей жизни. Потому что уже перестройка началась, новые произведения… Вот я сейчас смотрю – дети: ой, «Мастера и Маргариту» надо читать, ой, скукотища… Была в библиотеке им. Королёва презентация нового номера «Коломенского альманаха». Там полочка, куда выставляют книги, которые можно забрать, ненужные.
Буккроссинг.
Да. Смотрю, стоит том Булгакова, «Мастер и Маргарита». А в то время я-то читала «Мастера и Маргариту» в перепечатанном варианте! Сестра училась в институте и привезла на две ночи. И вот мы с ней сидели вдвоём и читали. Ничего толком не могли понять, потому что через два часа уже сознание ночью отключается. Потом уже, я помню, мама поехала в отпуск и привезла из Латвии, там раньше напечатали «Мастера и Маргариту». А сейчас не хотят читать. А в перестроечное время все упивались тем, что «Доктора Живаго» напечатали! И в школе мы об этом говорили, это действительно было возвращение этой литературы, это было замечательное время. Конечно, нам говорили, что такие книги есть, но мы их не читали, когда учились в институте.
Один мой выпуск – я взяла их в четвёртом классе, и мы с ними прошли этот путь – мы общаемся со многими до сих пор. Я считаю годы, проведённые в школе, очень счастливыми. У нас был замечательный коллектив, это мои друзья, сейчас по жизни мы встречаемся – не постоянно, но раз в год, два раза в год. У нас был директор Евгений Иванович Тюрин, удивительный человек, он несколько лет проработал во Франции, был директором школы при посольстве. Он приехал с идеями сделать школу прекрасной, свободной. Мне кажется, все в конце 1980-х, в начале 90-х понимали, что это какой-то новый поворот. Я сравниваю с тем, что сейчас… сейчас мы все опять завалены бумагами, мы всё время что-то делаем, делаем… А это было время, когда придумывай, вводи, говори – не было этого канцелярского…
Даже в 80-е?
Я с 1984-го работала, и уже где-то с 1985-го начались такие веяния, что-то новое вводилось. И это новое – оно было хорошее, оно было интересное, мы работали с удовольствием. У нас был драмтеатр в школе, мы там ставили Шукшина, ставили много чего. Я, где работаю, обычно всё время составляющие оставляю, чтобы что-нибудь перевести на сцену. На кафедре китайского мы с китайцами тоже ставим русскую классику, переделываем что-нибудь немножко, чтобы совместить русское и китайское.
У меня в жизни какие-то случайности… Потом я родила второго сына – и опять отпуск, тогда уже можно было сидеть в декретном отпуске три года, по-моему.
В каком году?
В 1990-м. И я совершенно случайно встретила Владимира Александровича. Ну, правда, когда я работала в школе, Айзик Геннадьевич, Владимир Александрович приходили со студентами на практику как руководители практики. То есть мы виделись на уроках, разбирали уроки их студентов. И я помню, что летом я шла и встретила совершенно случайно Владимира Александровича. Он говорит: «Что делаете?» Я говорю: «Вот, пока не работаю». А он говорит: «А приходите к нам, пока не работаете. Вы же всё равно там числитесь». Я говорю: «Ну, я не знаю…» И он взял тогда телефон, по-моему, у нас не было телефона, свекрови моей взял телефон, потом позвонил. И я пришла, и мне полставки дали, пока я сидела в декрете. А потом в аспирантуру поступила. Ну, то есть как-то получилось плавно, и так же у меня потом получилось с Москвой: работала в Коломне, мне предложили проработать в Москве, в МГПУ, преподавать русскую литературу китайцам, стажёрам.
Это уже в каком году?
В 2011-м. Там на полставки меня взяли, а потом как-то стали уговаривать переходить, но я ещё не переходила. У нас здесь тогда началось сокращение из-за перехода на бакалавриат. У нас было много направлений внутри специальностей, которые определяли количество часов у преподавателей. У нас была филология, но у нас были журналистика, краеведение, критика и что-то ещё. Бакалавриат уничтожил все эти дополнительные специальности, и у всех сократились часы. В общем, я ушла поэтому в Москву. Тоже так случайно случилось: женщина, которая преподавала китайскую литературу, ушла работать в другой вуз, и меня вызвал заведующий нашей кафедрой китайского языка профессор Владимир Анатольевич Курдюмов и сказал: «У нас на кафедре все лингвисты, а филолог только вы. Поэтому вот вам программа, готовьтесь. Пока поставим маленькое количество часов, но…» Я как открыла, я помню, китайские мифы и сказки – и всё! И вот так до современной литературы дошла – я просто поняла, как много существует в литературе миров, о которых мы не знаем. У нас же всё образование европоцентричное. То есть кроме Конфуция и Лао-Дзы вообще китайских-то имён мало кто знает. Поэтому это очень увлекательно было. И я не жалею. Русское у меня оставалось для китайцев, которые приезжали, а китайское – для русских студентов, которые учат китайский язык. То есть у меня получилось наоборот: я сначала начала китайскую литературу преподавать, потом пошла учить китайский. Конечно, я понимаю, что для того, чтобы его выучить, нужно всё на свете бросить. У нас удивительные студенты – они настолько мотивированные! Потому что это трудно… Да, я, конечно, не дотягиваю, но, тем не менее, я себя утешаю тем, что мне важен процесс.
Сколько уже лет вы учите китайский?
Периодически. Иногда я его учу очень интенсивно – например, весь прошлый год я занималась с репетитором. А до этого я не занималась с репетитором, просто какие-то программы слушала. Потом ведь, когда с китайцами работаешь, в слабых группах готовишься к уроку, всё равно какие-то слова находишь… В общем, я попала в 2011 году на кафедру китайского и до сих пор работаю. Ещё несколько лет назад мне корейскую литературу точно так же открыли – открыли корейское отделение. Я думала сначала, что, поскольку Корея долгое время была под протекторатом Китая, там очень много совпадений. Но сейчас видно, что всё, начиная от фольклора, там другое, но не менее интересное.
Тоже делится на Северную и Южную?
До 1948 года какое же там разделение? У них общая литература. После 1948 года Северная Корея, где идеология чучхе, красная, там мало что, мне кажется, можно соотнести с такими гуманистическими… А в Южной Корее очень много. В китайской литературе есть нобелевские лауреаты уже в 21 веке, а в корейской есть букеровские премии, женщина Хан Ган – у неё такие серьёзные вещи, у неё есть книга «Восстание в Кванчжу». У нас раньше в университете каждое направление имело стажёров: французские, итальянские, испанские – институт иностранных языков МГПУ. А сейчас у нас стажёры приезжают только из Китая, больше ниоткуда не приезжают.
«Я больше года даже не знала, что в Коломне есть кремль»
Может быть, мы вернёмся к тому моменту, когда вы впервые оказались в Коломне? Какие у вас впечатления первые были от Коломны?
Я поехала одна. Мне сказали, что это улица Калинина, остановка. Я вышла, нашла институт. Спросила насчёт документов: как подать документы, как на экзамены приезжать… И мне сказали: «А у нас есть подготовительные курсы двухнедельные». И я записалась. Это уже летом было. Экзамены начинались в августе, а это было в середине июля. И я приехала, сказала маме, что я буду поступать именно на филфак, потому что иняза всё равно не было, немецкого. А немецкий я сдавала, на «пятёрку» его сдала, когда поступала. С понедельника, как начинались эти курсы, я поехала и заселилась в общежитие. На втором этаже первый раз меня поселили. А потом, когда я сдала экзамены и меня зачислили, мы уже жили на третьем этаже. Я жила в 52-й комнате. Я сейчас сравниваю, какие общежития в Москве у наших студентов…
Вы сейчас сравниваете. А тогда как вам показалось?
Конечно, это было большое неудобство. Прежде всего, из-за отсутствия нормальных удобств. Но был душ. В общежитии тоже была столовая. И это было удобно, потому что рядом. Я говорила уже, что до девяти вечера, как правило, мы сидели в читальном зале. А потом в девять вечера можно было прийти…
Всё в составе кампуса, да?
Ну, это не было огорожено, конечно, никак. Но это рядом. Можно было прийти, попить чаю. Причём, когда мы сидели в читальном зале, мы ещё могли выйти – рядом был кафетерий – съесть мороженое или попить сок с какой-нибудь булкой. Первый год и, по-моему, второй тоже, я обычно в субботу, когда заканчивались занятия, сразу уезжала домой и приезжала рано утром в понедельник, рано-рано, в 4 часа из дома выезжала, чтобы к первой паре успеть.
Добирались-то каким образом? Электричкой?
Да, конечно. А потом в воскресенье вечером уже стала приезжать. А вот уже третий, четвёртый – частенько оставались, не каждую неделю уже ездили. Кто-то ездил каждую неделю, но я уже ездила, наверное, через неделю.
Мы получали стипендию. Стипендия была 40 рублей, я получала 46 рублей – у меня были «пятёрки».
На что хватало этой стипендии?
Да вы знаете, 46 рублей – это были реальные деньги в советское время! Например, в столовой пединститута на 50 копеек можно было съесть первое, второе, салат и компот. Я знаю, что у нас кто-то ездил после занятий, из тех, кто жил в общежитии, в ресторан «Советский», там были по рублю какие-то комплексные обеды. Я, правда, не ездила ни разу, но знаю, что они были.
Ресторан «Советский» там, где гостиница?
Да, там был ресторан на первом этаже.
Да, как увидела я Коломну? Дело в том, что доезжали до станции Голутвин. Дальше на трамвае до пединститута. И вся неделя – это лекции, потом читальный зал, потом надо было что-то ещё читать. И вот так, чтобы куда-то выехать… Я долгое время, больше года, даже не знала, что в Коломне есть кремль, ещё что-то… Как-то нам вообще об этом никто не говорил. И кремль мы увидели, когда на втором, по-моему, курсе мы стали работать – каждую осень мы же работали в совхозе, помогали убирать овощи.
А куда именно ездили?
На первом курсе нас возили каждый день в Акатьево. Мы там работали, и нас на автобусе назад привозили. Мы с собой брали капусту! Нам разрешали взять капусту, морковку немножко – мы её в общежитии жарили, ели. На втором курсе мы работали на полях совхоза «Сергиевский». И эти поля начинались, я так понимаю, где мост…
Где Бобренев луг, от понтонного моста?
Да. Туда мы ездили сами уже. Мы туда приезжали, через мост переходили, шли. И вот тут, конечно, мы увидели, что о-го-го! – тут и кремль, и стены!..
То есть это было сильным впечатлением?
Да, очень сильным! На последних, наверное, курсах мы были – открыли «Горизонт». Кинотеатры «Восток» и «Юность» были: «Восток» – с одной стороны сквера Зайцева, а «Юность» – это где теперь «Дом Озерова». Были какие-то фильмы – мы ездили иногда, но не часто. Я знаю, что ещё на танцы ходили, но у меня так получилось, что я не попала ни разу на танцы. На танцы ходили в «Зайчик» – кинотеатр Зайцева был, где Бобровский сад. И я этот Бобровский сад полюбила, потому что, когда я вышла замуж, мы какое-то время жили у бабушки моего мужа, прямо на соседней улице: улица Дорфа, а рядом Вагонная. Я в коляске ребёнка возила по Бобровскому саду, по танцплощадке – просто днём ходила гулять. Не знаю, наверное, я была очень как-то в учёбу упёрта, и времени на то, чтобы на танцы ходить, не было. Но зато, когда у нас были в институте какие-то вечера, мы всё время ходили и танцевали, потом уже дискотеки стали появляться. На последнем курсе учились, я помню, мы ездили один раз в Воскресенск на дискотеку. Там о чём-то рассказывали, а не только танцевали, что-то такое было новое по форме. Ну, а так в основном учёба была, мне кажется, что это было очень интересно, потому что весь этот мир открывшийся – это было здорово!
Общежитие вас не отвлекало от учёбы – решение каких-то бытовых задач или шумные кампании?
Мы сами, наверное… Я, например, взяла гитару с самого первого курса – я уже когда ехала, взяла с собой гитару.
Вы уже владели инструментом?
Знаете, я, наверное, как тогда владела, так и до сих пор владею. Я много песенок каких-то написала, у меня есть и два диска песенок. Но я играю не очень хорошо, за что меня муж ругает, говорит, что надо серьёзно заниматься. Ну, как там в анекдоте про обезьяну? Не разорваться!
Что мы пели? Мы пели Булата Окуджаву. Это, конечно, было любимое. Я не помню, какой это был год, сестра уже была студенткой, и она привезла диск Окуджавы большой. Дома ещё мы жили, да. И я первый раз его послушала: голос такой старческий, дребезжащий. Что он там поёт?! Я прослушала до конца. Потом включила ещё раз… И уже через неделю я пела все эти песни! Я просто не знала, куда от них деться! Потом Веронику Долину мы знали, её песни все. Ну, и какие-то песни из фильмов, из «Большой перемены». Помните:
Мы выбираем, нас выбирают.
Как это часто не совпадает…
Какие-то песни, которые всё равно по духу похожи на авторскую песню, может быть, потому что в них, кроме музыки и слов, есть какой-то люфт задушевности, когда важна не сила голоса, а те чувства, которые ты в эти песни вложишь.
Я на филфаке была не единственная, кто играл на гитаре, у нас ещё были девчонки. Ну, мальчишек на филфаке мало… Потом, у нас же в общежитии жили чеченцы, один учился на год нас старше, его звали Абуязид, я не знаю, жив он или нет, он был слепой, абсолютно слепой, и он играл на баяне. И на всех концертах он выступал, всё время играл. У чеченцев был ансамбль «Вайнах», они танцевали прекрасно и песни пели, я даже до сих пор несколько чеченских песен помню, потому что мы же учились вместе.
То есть они не обособленно держали себя, а были как-то интегрированы, смешаны по комнатам?
Вначале нас поселили так – делили курс по алфавиту: две девочки на букву «А» – это две чеченки, две девочки на букву «Б» – Булгакова и Булыгина – это две русские девочки. И нас вместе поселили. Да нормально мы жили! Я даже брала девчонок в гости ко мне, ездили в Наро-Фоминск. Моя мама даже до последних лет вспоминала, как там они, интересовалась.
То есть вы так и прожили с ними все четыре года?
Нет. Хорошие девочки, мы не ссорились, но когда какой-нибудь мальчик стучался в дверь и заходил, чеченец, чтобы книжку взять или что-то, они говорили: «Девочки, мужчина входит в комнату – вы должны встать!» Мы говорим: «У нас не принято!» И когда стало возможно поменяться с двумя другими девочками из Чечни, мы поменялись и жили так, как хотели жить, не вызывая их возмущения.
А так, конечно, мы все друг друга угощали, помогали друг другу. Я говорю, с некоторыми ребятами из Чечни мы до сих пор поддерживаем отношения, перезваниваемся, поздравляемся и встречаемся.
А ещё из каких городов и районов с вами учились на курсе?
Одна девушка приехала с Западной Украины, Валентина Монастырская, она потом здесь вышла замуж. Моя подруга была из города Мирный, но не якутский Мирный, а из Плесецка. Я была даже у неё в гостях – на свадьбу к ней ездила. А сейчас она живёт в Калининграде. Мы не потерялись, мы общаемся. Очень много было коломенских и из ближайших районов – Зарайск, Луховицы. Из Луховиц была у нас Таня Володина. Из Зарайска была Рашида Мастюкова, она потом вышла замуж за болгарина, уехала в Болгарию. В Коломне в 12-й школе завуч Наталья Геннадьевна Тихомирова – она была Наташа Белашова. Тоже в какой-то школе работает Люба Шиндикова, она была Люба Зыбенкина. Это вот наш курс. Сергей Иванович Патрикеев, мы с ним проработали на кафедре литературы, он тоже защитился потом и преподавал литературу. Курс, мне кажется, хороший у нас был.
«Вы сменили вашу литературную фамилию?!»
Где и как вы познакомились с мужем?
Муж коломенский, и корни его семьи здесь древние. Его прадед до революции был фельдшером, по-моему, в шестой больнице – это же единственная, кажется, больница была тогда. Лев Григорьевич Таланов. Я писала материал по родственникам Достоевского: внучатая племянница Достоевского ведь жила в Коломне, работала конструктором на тепловозостроительном заводе, а племянница была врачом. И муж её был врач, Михневич. И в этой книжке есть эти материалы, и Виктор Семёнович в альманахе тоже печатал, может быть, и Викторович печатал. Я попала в архив коломенской больницы. Я пришла домой, говорю «Я пошла искать родственников Достоевского, Саша, принесла тебе твоего прадеда, Льва Григорьевича».
А где находится у нас архив?
Был в нашей ЦРБ, а потом куда его дели, неизвестно. И была в архиве Коломзавода – вот там архив, мне кажется, хранится. Почему больница к ним относилась? Потому что она на их территории находилась. Мой муж учился на общетехническом – тогда так назывался технологический факультет. Мы, в принципе, были знакомы – мы знали, кто мы такие, но… Он на два года раньше окончил институт, служил в армии в Германии. Мы познакомились в ресторане. Он пришёл с друзьями в ресторан – отмечали его возвращение из армии. А у нас был в ресторане «Коломна» выпускной вечер.
Ресторан «Коломна», где сейчас «Спортмастер»?
Да, совершенно верно. У нас был выпускной на филфаке, а он пришёл из армии, уже получил лейтенантские погоны – он после армии ещё на сборах был. И он меня пошёл провожать. Всё равно определяющую роль сыграла любовь к литературе: кто что читал в последнее время. А он читал Германа Гессе, «Степного волка». И я помню, что мы шли в общежитие и вслух, друг другу помогая, вспоминали слова: «Мир лежит в глубоком снегу. Ворон на ветке бьёт крылами. А я, Степной волк, всё бегу и бегу…» – то стихотворение Гессе, которым открывается роман. Я до сих пор считаю, что не так-то часто встретишь в жизни человека, который знает Гессе наизусть. Ну вот, и так всё и определилось. Правда, у меня распределение было, я уехала в Чехов, но потом мы поженились, и я вернулась сюда. Конечно, на меня ещё необыкновенное впечатление произвело при первом знакомстве с его семьёй бабушки и дедушка. К тому времени уже одного дедушки не было в живых, а один дедушка был, и они жили на улице Вагонной. Дом бабушки – как раз дом, в котором жил Лев Григорьевич Таланов, это ещё Северное страховое общество строило. И это была такая простота, такое радушие, такая любовь! У меня к этому времени бабушки уже много лет не было, бабушка моя, которая меня растила, Мария Алексеевна Юткина, умерла в 1975 году. А это было в 1982-м – семь лет у меня бабушки не было. Я когда пришла к ним, я поняла, что это прям родные люди, абсолютно родные! Мы оставались такими родными людьми. Нет, у моего мужа были прекрасные родители! Но я благодарна бабушкам за то, что я работала в школе и знала, что если что, если ребёнок заболеет или что-то – они всегда подхватят, поддержат. Я не окончила бы аспирантуру и не защитилась бы, если бы я не знала, что в день, единственный свободный, я могу поехать в Москву в архив или в Ленинку или куда-то, а бабушки с удовольствием останутся с мальчишками. Они очень любили моих сыновей, и ребята тоже их любили очень. Чудесные люди – Анна Григорьевна Кондратова, Павел Данилович Кондратов, Антонина Петровна Таланова. Дедушку Александра Львовича я не застала, потому что он умер. И вот это ощущение, что ты нашла, это твоя семья, – это очень важное ощущение.
То есть оно уже возникло при первом знакомстве?
Да, при первом знакомстве с семьёй возникло. Бабули – они так для нас и остались, бабули. Я сменила фамилию Булгакова на Кондратову и встретила Александра Петровича Ауэра, и он говорит: «Вы сменили вашу литературную фамилию?!» Когда я училась, это было время, когда о Булгакове уже стали говорить. И некоторые преподаватели, зная, что тут сидит Булгакова, всё время в такие определённые словесные игры играли. Я помню, как Александр Петрович (мы все его обожали!) на практическом занятии говорит: «Ну что, Булгакова, вы сделали свои записки на манжетах?» А я, честно говоря, не знала, что есть такое произведение у Булгакова! Какие записки?.. На каких манжетах?..
И вот вы знаете, удивительно, но мой муж мне говорит: «Давай я возьму твою фамилию»! Потому что он тоже уже к этому времени читал Булгакова. Это был 1982 год. Если бы я не была знакома с бабушками, я бы сказала «да», потому что у нас в семье две девочки, и фамилия должна была уйти (но она не ушла). Но я подумала, что дедушка с бабушкой, Павел Данилович и Анна Григорьевна, баба Аня и деда Паля, как мы их звали, наверное, очень обидятся, поэтому я взяла фамилию Кондратова. А вот когда старший сын учился в Москве на философском в Дружбе народов, решил фамилию поменять. Ну, я так поняла, что тут было не без моих родителей, потому что фамилия исчезала, и он сменил. Я говорю: «Папа не расстроится, не обидится?» – «Нет, папа не обидится». Поэтому у нас мужем два сына, Игорь Александрович и Дмитрий Александрович, Булгаков и Кондратов.
А свадьба была у вас?
Да, но она была не в Коломне, а под Наро-Фоминском – если ехать по Киевскому шоссе, там был выстроен ресторан «Терем», из брёвен. Это было ещё время, когда такой эксклюзивный вид у него был. Там была наша свадьба. Я в это время работала в школе в Чехове, даже не в Чехове, а в Чеховском районе, это село Мещерское (нужно доехать до станции Столбовой и там ещё на автобусе). А работали ведь раньше в школе с понедельника по субботу – шестидневка. И я даже не могла выбраться, чтобы себе купить платье! Моя подруга из Мирного, вышедшая замуж за год до этого, сказала: «Я тебе пришлю». И у меня ещё была одна проблема, очень серьёзная – у меня была очень маленькая нога. В советское время советские женщины не должны были иметь 33-го размера ноги! Ну, сейчас я доросла до хорошего 34-го, почти 35-го. Но все-таки мне уже седьмой десяток лет.
Разве это не решалось походом в детский отдел?
Да, я вообще всю жизнь ходила. Пока мои подруги ходили на шпильках, я ходила в обуви из «Детского мира». Но в сандалиях или в чём-то таком на свадьбу… всё-таки хотелось на каблуках, поэтому у меня были… такие большеватые, набитые ватой белые туфли.
Выходили из положения.
Ну, это разве важно? Это не очень важно. Совсем не важно.
Сразу после свадьбы я переехала в Коломну.
«Господин Ветер»
Вы с удовольствием вернулись в город?
Да! Мне очень хотелось вернуться в Коломну! Во-первых, наверное, река… Живя в общежитии, куда мы выбирались? На самом деле мы редко выбирались в старый город.
Вы имеете в виду Москву-реку, Коломенку?..
Нет, я имею в виду Оку. Мы жили в общежитии, мы ходили на Оку, в Бочманово. А потом мы жили в Колычёве: родители моего мужа жили в Колычёве, и мы какое-то время жили с ними. И, конечно, по сравнению с Нарой, это просто море! Мне очень нравилось. Река, конечно, потрясающая. Потом, у Сашиных родителей сад был (наш теперь этот сад, родители умерли уже) – огромные яблони, тоже как-то всё красиво… Ну и потом, наверное, какие-то моменты жизни в Коломне. Вот я познакомилась с Виктором Семёновичем Мельниковым, что-то ему писала, какие-то критические статьи, какие-то обзоры делала. Собственно говоря, вот эта книжка синяя сложилась из чего: предисловие, послесловие, о ком-то писала статьи… На самом деле, я стихи писала с юности, но поскольку филологическое образование, как-то не очень решалось их показывать. Песенки какие-то были, но опять же для друзей. А потом я повезла студентов на всероссийский форум «Осиянное слово» в Переделкино. И там почитала свои стихи. Мне говорят: «А почему вы стесняетесь?» Ну, и как-то постепенно я пришла к тому, что не надо стесняться того, что ты пишешь. Я благодарна тем людям, прежде всего, из авторской песни, из поэтов, которые поддержали меня в том, что писать стихи – это нормально. Это Михаил Анатольевич Кукулевич, мы с ним познакомились в начале 2000-х годов, и я очень счастлива, что он предисловие писал к моей книге, и я ему тоже несколько предисловий писала. Это поэт и музыкант Григорий Донской – поскольку он сам филолог, мы делали встречу в пединституте, и я его спросила, как соотносится филология и поэзия (я даже не о себе спрашивала). Он сказал: «Совсем одно другому не мешает». Алексей Витаков, который пригласил меня на этот форум, и я много лет была членом жюри этого форума. Потом уже я вступила в Союз писателей – мне направление тоже дали в Переделкине. Ну, на самом деле для того, чтобы писать стихи или прозу, всякие членства не помогают и не мешают, но это помогает, если ты что-нибудь устраиваешь, какое-то мероприятие. Вот 10 лет мы с мужем делали под Коломной фестиваль «Господин Ветер». Вот здесь – да, потому что властям иногда важно, что пришёл человек – член Союза писателей России. Ну и для СМИ опять же, потому что в центральной прессе писали о фестивале. Жалко, что его нет, но хорошо, что он был.
С какими чувствами вы сейчас вспоминаете эти фестивали?
С самыми замечательными, добрыми чувствами, потому что такое количество замечательных бардов к нам приезжало! Первые мы делали в районе Шапкина, и там для этого даже пруды почистили. Приходилось обращаться к людям, которые могут помочь. Мы пошли в часть воинскую, которая находится на территории артучилища: «Что я могу сделать для вас? Я могу лекцию прочитать, я могу рассказать о современной литературе… Вы нам помогите – там нет воды…» И вот они привозили технику, воду возили, помогли очистить пруды. Тогда Николай Михайлович Оттясов был главой района, и он сказал, что благодаря фестивалю почистили пруды. А потом глава Песковского поселения сам предложил: «А давайте у нас! У нас не надо воду возить, мы подключим прямо от водопровода». Юрий Александрович Карпов так помогал нам! Если что-то нужно было для фестиваля, он вечером мог приехать, стремянки не хватает – стремянку из дома привезёт. И, конечно, они там и окашивали территорию…
Это всё-таки была ваша общественная авторская инициатива. А как вы объясняете энтузиазм людей, как которые к вам подключались? Любовью к вам лично или к авторской песне?..
Понимаете, фестивали рассчитаны на то, чтобы создать атмосферу общения творческих людей друг с другом, просто людей с творческими людьми. Ведь когда люди идут на концерт, есть сцена, есть зал – и всё: тут нет перегородки, но она есть. Она есть! А на фестивале это действительно общение. Очень радостно было, что много молодых людей помогали, волонтёрили. Вот как мы ездили в Даровое работать со студентами, потом они уже не стали студентами, но они все перешли волонтёрить на фестиваль.
А муж со временем, хоть у него и техническое образование, всё-таки вернулся к, наверное, делу своей жизни – он всегда занимался музыкой. Последнее его место работы до того, как он всё-таки решил, что музыкой он будет заниматься серьёзно до конца уже, – в «Диаскане» был начальником службы, у него там хороший был карьерный рост… Но он сказал: «Хочу заниматься тем, о чём мечтал всё время». И поскольку у него образование музыкальное по классу скрипки и по классу гитары, всякие переподготовки прошёл, плюс у него педагогическое образование, он работает в Доме туризма – экскурсии, преподаёт гитару, сольфеджио объясняет ребятам. Ему хочется, чтобы там звучал не только Цой, хоть муж сам воспитан на произведениях английского рока. Кстати, так получилось, что я-то как раз не очень была с западной музыкой в молодости знакома, но за 40 с лишним лет Роберт Плант, Джимми Пейдж, Блэкмор и прочие стали близкими и родными людьми, потому что всё время эта музыка дома. И, конечно, авторская песня. Причём мы были сторонниками, чтобы звучала авторская песня в современном варианте, потому что современная авторская песня впитала в себя и традиции – в поэзии это и Серебряный век, и современная поэзия, а в музыкальном отношении это и западный рок, и какие-то современные эксперименты музыкальные. Это не только три аккорда в ля миноре. Я-то как раз – три аккорда в ля миноре. А к нам приезжали очень интересные люди: Ольга Чикина, известная во всём мире, Григорий Донской, Ксения Полтева, Михаил Башаков, сделавший русский вариант «Элис», Андрей Козловский, тоже великолепный музыкант и автор очень интересных, умных текстов.
А как эти связи возникали? Они же по приглашению приезжали. Это связи вашего мужа? Или ещё кого-то?
У нас под Луховицами был фестиваль «Голубые озёра». Муж начал раньше ездить на эти фестивали, потом я тоже стала ездить – мы были знакомы. Потом, у нас же в городе есть пишущие люди: Михаил Мещеряков, Марина Подвойская, Игорь Анохин, Владимир Макин, из молодых хорошо пишет Наталья Красюкова. Кроме того, мы ездили много лет на Куликово поле, я там в течение нескольких лет вела мастер-класс по поэзии.
На Куликовом поле свой был фестиваль авторской песни?
Очень большой! После «Груши», пожалуй, второй был по величине фестиваль на Куликовом поле. Меня туда приглашали после форума «Осиянное слово», я там тоже была членом жюри. Как-то это всё постепенно было, все знакомились. Нет, приезжать могли все, кто угодно, но мы приглашали (и разыскивали деньги, чтобы им оплатить) только тех, чьё творчество ты любишь. Это же естественно!
То есть вы отбирали, вы связывали с этими людьми?
Да. К нам приезжал великолепный Сергей Труханов, царствие ему небесное. Много лет приезжал к нам. Я очень могу многих назвать известных в современной авторской песне людей, которые были у нас здесь. И здорово, что это было. Ну, закрыли фестиваль и закрыли. Приняли такое решение поставить точку. Изменилась ситуация, власть всё время меняется, и каждый раз доказывать, что это для людей… Наверное, золотое время было, когда ещё район был, – они, конечно, к этому относились совершенно по-другому. Они понимали, что собирается огромное количество людей. Мы привлекали всё время местных: в Песках детский хор есть – они придут, хор старушек – они тоже авторскую песню пели!.. Конечно, со всей страны люди приезжали, даже из зарубежья приезжали. Деньги находили – и призы хорошие были: гитары были хорошие, на самом деле хорошие. Очень спонсорам благодарна – многие поддерживали, помогали.
Это большая работа.
Да, целый год готовили то, что проходило в течение трёх дней. Знаете, мне кажется, почему (я, во всяком случае, в это верю) нас там любили, что в Песках, что в Шапкине? Когда мы приехали в Шапкино, там были груды мусора. В Песках, конечно, нет, но всё равно – мы каждый раз убирали всё до фестиваля (вот просто машины!) и после (это уже легко, потому что мы всем раздавали пакеты, все свой мусор собирали). То есть мы оставляли после себя чистое место, которое могли опять в течение года…
То есть вы приносили реальную пользу месту.
Я убеждена, что это так! И поэтому никто никогда не возражал. Я единственный раз получила премию от губернатора Подмосковья – за развитие экологии, за экологические акции во время проведения фестиваля «Господин Ветер». Мы причём подавали в творческой номинации и в экологической – это наш отдел культуры посоветовал подать. Там долгое время Александр Аркадьевич Шандров был, он очень тепло к нашему фестивалю относился, Инна Владимировна Рвачёва, тоже из отдела культуры – это люди, которые чем могли нам всегда помогали. И, по-моему, 50 тысяч я получила тогда премию. Естественно, все эти деньги в следующий фестиваль ушли. Последний раз мы делали фестиваль вместе с «Лигой», потому что мы получили грант тогда – «Лига» предложила получить под этот фестиваль грант.
Последний год был 2019-й?
2021-й. Последний делали фестиваль, потому что я как частное лицо не могу заявку делать: нужно, чтобы штат был, чтобы бухгалтеры были. И вот тогда мы получили этот грант, но начали работать ограничения из-за ковида. И того огромного масштабного мероприятия, которое должно было быть, зрелищного, не получилось, получилось только в интернете. Поскольку были деньги, мы наприглашали очень многих исполнителей, и всё это было просто в «Лиге» записано: они выступали, и всё это транслировалось. И на последний концерт, сказали, что можно, чтобы там находилось 50 человек. Но мы на протяжении этих лет выпустили три сборника альманаха поэтического «Ветер в ивах» – это победители номинаций поэтических конкурсов, фестивалей. Последний выпускали тоже на деньги гранта, который получила «Лига», и Ольга Анатольевна Милославская, Александр Анатольевич Манушкин помогали нам, спасибо им, что последний фестиваль, хоть и не получился визуально масштабным, но качественно он получился очень значительным. Эти сборники были разосланы во все края России, Союз писателей делал объявления. С января, по-моему, мы начали этот конкурс, и нам дистанционно присылали. У нас были хорошие поэты, писатели в жюри: из Твери Любовь Колесник, очень известная поэтесса, Нина Ягодинцева из Челябинска – то есть люди с именами большими. И наши, конечно: Сергей Малицкий, Михаил Мещеряков, Марина Котова, лауреат Тютчевской премии журнала «Москва».
Может быть, надо о чём-то ещё обязательно рассказать, о чём у нас не зашёл разговор?
Я должна сказать, что человек не выбирает место, где он рождается – это от чего-то другого зависит, но у человека есть то, что называется милым пределом, как Пушкин писал: «Но ближе к милому пределу Мне всё б хотелось почивать». Для Пушкина милым пределом было Михайловское, хотя он не там родился, родился он в Москве. Ну, вот сейчас уже понятно, что мой милый предел – это Коломна, хотя родилась далеко отсюда, но это мой город. Я люблю Коломну. Мои дети здесь выросли. И всё, наверное, что я сделала, если я что-то сделала, если что-то останется, то это сделано здесь, в Коломне. Поэтому спасибо Коломне.
«Достоевский нашёл отвёрточку и всё починил»
Давайте посмотрим ещё фотографии.
К сожалению, два пожара практически уничтожили фотки. У нас висел в доме большой портрет отца масляной краской написанный хорошим художником московским, он остался сфотографированный.
А кто в семье фотографировал?
Отец фотографировал.
Вот мы учились в одной группе – Таня Булгакова, Сергей Патрикеев, Аднан Гучигов. 1979-й год. Мы общаемся, Аднан приезжает в Москву часто, у него дети в Москве, мы встречаемся иногда – к нам в Коломну он заезжает.
А вот это фотографии свадебные. Вот мы, а это наши свидетели. Наш свидетель Владимир Жаров тоже был одним из исполнителей. Он учился на инязе у нас, а потом уехал во Францию. Он ученик Александра Борисовича Суркова.
Это мои подружки коломенские, тоже филфак заканчивали. Вот Ирина (была Синякова) Ермолаева, она долго в школе работала, сейчас свободный художник. Это Анна Михайловна Браславская, она живёт в Израиле сейчас. Она и музыкант ещё, в отделе культуры работала, когда была Светлана Борисовна Волкова заведующей отделом. С Анечкой мы по молодости вместе работали в школе № 17.
А вот эта фотография… Когда начинался проект пастилы, то первые театрализованные представления Наталья Геннадьевна и Елена Николаевна в институте сначала показывали и во флигеле музея Лажечникова. В институте они показывали, когда кто-то приезжал из большого начальства. Я как раз в то время выполняла обязанности декана филфака. Когда это всё начиналось, мы с Михаилом Анатольевичем Кукулевичем делали проект «В гостях у Ивана Ивановича Лажечникова». И мы исполняли с ним и на стихи Лажечникова, и разыгрывали, как будто Лажечников явился… Я не современница его, а почитательница его таланта из 21 века. Мы это разыгрывали достаточно долго, целый год, наверное, по выходным, в одном из залов флигеля показывали с ним. Потом у нас всё это прекратилось, а история осталась. Кстати, будет в следующем номере «Коломенского альманаха» материал «Дети войны» – там будет цикл военных стихов Михаила Анатольевича, мне его вдова прислала.
Это молодые коллеги: Татьяна Белова и тогда ещё Мария Яковлевна Сорникова – она сейчас известный детский писатель Маша Сандлер, тоже работала на кафедре.
А вот это Даровое. Это тяжёлый труд студентов. Мы долбили цемент в храме в Моногарове, полутораметровый слой. Это буквально первые годы, там тяжёлая была работа, мы не только там фольклор собирали. Вот такие десанты… Ну, и тоже там отдыхали. Ребята играли в футбол с истфаком. Истфак там копал. Кстати, работа в Даровом нас и сдружила с истфаком. А вот Дмитрий Андреевич Достоевский, недавно ушедший из жизни, вот мы с ним стоим – он к нам приезжал тогда. Он был единственным правнуком Достоевского. Ой, он замечательный человек! Он мог отремонтировать всё, что угодно! У нас когда-то давно сломался то ли магнитофон, тогда же не было ещё интернета, так он нашёл отвёрточку и всё починил. Это тоже какая-то молодость, все преподаватели приезжали в гости. Много лет каждое лето Дарового ждали. И даже те, кто окончил институт, приезжали. Сейчас то же самое, всё это продолжается. В моей жизни это просто время чудес. Это время, когда для всех студентов и для меня Фёдор Михайлович Достоевский, поскольку он там был ребёнком, из классика абстрактного превратился в Феденьку. Которого мы полюбили именно там по-настоящему.
Может быть, ещё два слова про каждую из книжек?
Вот книжечка, у неё название какое-то филологическое – «Природа жизни». На самом деле, это художественная книга, и здесь есть первая повесть, которая называется «Но точно не помню». Это такая смешная ситуация, когда говорят: «Как называется книга?» – «Точно не помню». Здесь есть пьеса «Здесь только счастье» и стихи. Она вышла в 2011 году, но у меня осталась только одна. Это было время, когда много ездили на фестивали, меня приглашали часто в жюри поэтических всяких конкурсов и мастер-классы вести. И, конечно, это всё дарилось, расходилось…
Кижечка «Море Лаптевых» вышла в 2018 году. Тут стихи, которые, я посчитала, должны быть на бумаге, что они выдерживают бумагу. Но есть ещё песенки. Тексты песенок иногда выдерживают. «Без вести», которую я вам читала, – это тоже песня, кстати. Ну, в последнее время иногда появляются стихи, но редко, больше переводы.
А это учебники. Сначала вышел учебник «Литература Китая», а потом с коллегой молодым с кафедры вместе делали – получилось «Введение в литературу Китая». Мне они удобны, потому что сейчас студенты по ним работают, здесь есть и тексты лекций, и задания – всё тут есть. Книга выложена полностью в электронном виде, поэтому говоришь темы – всё, они сами изучат.
Книга «Литературное краеведение. Коломна и окрестности». «Лига» получила президентский грант на её издание. Они когда мне предложили, то я сначала думала, а потом просто собрала всё то, что было написано за последние 20 лет – какие-то предисловия, послесловия, где-то в газете, в журналах что-то напечатано… А потом уже, когда уже всё это издали, я поняла, что туда не вошла ещё куча материала. И что-то я дописывала: про Дагуроваа, про Шервинского…