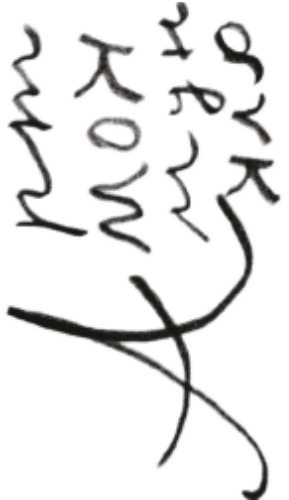«Едешь, лопаточкой упираешься в снег – и так красиво, такие буруны снежные!»
Рассказчица: Анна Витальевна Родина.
Собеседница: Екатерина Ойнас.
Дата интервью: 17 июля 2024 года.
Давайте начнём с самых ранних воспоминаний детства, про вашу семью на момент вашего рождения.
Я в девичестве Баркова. Мой папа коренной коломчанин или коломенец (я до сих пор не знаю, как правильно говорить, к моему стыду). У нас тут родовой дом – с 1860 года мы знаем эту историю. Может быть, если покопаться, даже и глубже можно найти. Папа наверняка знал, он знал очень много про Коломну, любил Коломну. Не только о Коломне, он знал всё: мы приезжали в Ленинград – он там всё знает. В общем, интересовался историей.
В каком году папа родился?
В 1928 году. У него отец был конструктором, причём без образования, от Бога. У него была большая пачка патентных бумаг.
То есть он был разработчиком и патентовал свои разработки?
Да, на заводе. Куда это делось, я не знаю, но в детстве это было. Дедушка работал конструктором на Коломзаводе, в войну их семью эвакуировали в Киров с заводом. Семья на тот момент: мама, папа и их мама и папа. Маму Юлией звали, это моя бабушка, и у них ещё был брат Юрий, он потом вернулся, и у них родилась девочка Наташа, сестрёнка, в войну. Мама умерла от холеры, и девочка тоже умерла, остались одни мужики, они вернулись в Коломну уже втроём. Это отдельная история, горькая достаточно.
У папы было высшее образование, инженером работал. Единственный раз в жизни он поехал отдыхать в туристическую поездку, встретил там маму, это был 1963 год, они поженились. Мама 1933 года рождения, родилась в Ленинграде. И мы с сестрой тоже родились в Ленинграде – мама меня ездила рожать к своим родителям. У неё была проблема с отрицательным резусом, и она меня рожала в Институте гинекологии в Ленинграде. В двухмесячном возрасте я приехала в Коломну и считаю себя коломчанкой или коломенкой. На самолёте мама летела с нами двумя: сестре было полтора года, мне было два месяца. Мама с пелёнками и бутылками летела, а папа тут встречал.
Папа где получал образование?
В политехническом институте коломенском. Он, когда обзавёлся семьёй, был уже не молод, ему было лет 36. Он перешёл работать слесарем, потому что там была зарплата больше, и до конца жизни со своим высшим образованием работал слесарем. Но он был хорошим слесарем.
То есть инженеры получали меньше, чем рабочие?
Да. Мама получала, по-моему, 120 рублей, она экономист.
И примерно так же инженеры на Коломзаводе получали? А рабочие сколько получали?
Да. А рабочие 200 с чем-то получали.
То есть в семье было двое детей, нужно было содержать семью?
Не знаю, в какой момент он перешёл. Тогда в декрете так долго не держали – по-моему, три месяца, потом они отпуск брали, подгадывали, чтобы подольше посидеть. А потом в ясли. Нас в ясли пожалели отдавать сразу, с пелёнок, у нас были няни. У меня и у Юли, сестры, были разные няни. Они жили рядом, бабушки просто, сколько-то им платили. Меня туда отводили.
То есть, по сути, это соседи были?
Да. Баба Дуся её звали, она на соседней улице жила. Юлькину не помню, как звали. Моя баба Дуся меня научила на ночь есть ряженку с булкой, такую тюрю.
Это было вкусно вам?
Наверное, вкусно. Потом ещё какие воспоминания? Мы сначала в «Муравейник» ходили. Нет, сначала в ясли какие-то…
«Муравейник» – это?..
Это детский сад, он был расположен в том месте, где сейчас «Белый дом». Нас туда водили зимой, везли на саночках. Наверное, мы не помещались зимой со всей амуницией зимней в одни санки, и двое санок друг за другом цепляли и волокли. Ещё, я помню, едешь зимой, лопаточкой упираешься в снег – и так красиво, такие буруны снежные! Папа или мама впереди упирается, везёт, а я тут торможу!.. А летом нас папа иногда носил букетом, двоих. А чтобы мы не пачкали пальто своими ногами, мама сшила фартучек чёрненький. На чёрное пальто надевался чёрный фартучек. Папа нас брал букетом, нёс в садик, потом сворачивал фартук, в кармашек. По улице Козлова мы ходили, я помню.
Здание детского сада что собой представляло? Почему «Муравейник»?
Название такое. Мне кажется, он и сейчас есть, но где-то в другом месте. Его куда-то перевели, потом мы уехали в Коми, а его сломали и построили административное здание.
Я помню, что я любила манную кашу очень! Помню один момент, когда мы опоздали в садик, и мне нянечки говорят: «Анечка, опоздала, манная каша тебе не досталась». Я плакала! Она пошутила так, но у меня серьёзные были слёзы. Любила манную кашу! А овсянку не любила. Там остренькие штучки – шелуха попадалась, и у меня вызывало такой рефлекс неприятный. А сейчас люблю, сейчас другая какая-то она, или я выросла просто.
«На кукле потренировалась, потом себе так же сделала»
Потом мы уехали в Коми. Мы уехали, потому что бабушка с дедушкой, мамины родители, были геологи. Благодаря этому они в войну остались живы, потому что Ленинград был в блокаде, а они в 1940 году уехали на Колыму и маму туда взяли. А в Ленинграде остались бабушкина сестра с дочерью, они жили в одной квартире, в одной комнате в коммуналке, впятером. Вот… они там и остались… А вторая бабушкина сестра жила в Павловске с дочкой, их угнали в Германию, они там на какой-то ферме работали, потом вернулись после войны.
Дед был начальником геологоразведочной партии, и они с бабушкой ездили по разным местам, искали полезные ископаемые. И дед маму туда стал звать на заработки, потому что жили не очень. Папа ни в какую не хотел ехать, и мама поехала со мной. Я тогда ещё в садик ходила, мне было 6 лет. Мы жили там в бараке. То есть начальник партии жил в бараке! Это был общий коридор, кухня с печкой, ну, и как начальнику две комнаты было положено. Мама готовила на какой-то плиточке в комнате. Я ходила в садик. Кстати, у меня воспоминания такие: у соседней комнаты лежал коврик лоскутный, лохматенький (сейчас я знаю, что это ляпочиха называется) – тогда на меня это произвело впечатление. Но вообще я что-то всегда делала руками. Ещё до Коми, я помню, ножницы от меня прятали, поскольку я стригла кукол. У нас с сестрой были две куклы похожие, только у меня была брюнетка, у Юльки блондинка. Я ей отстригла чёлочку, на ней потренировалась, потом себе так же сделала. Кстати, я потом стрижками-то занималась, во взрослом возрасте я стригла.
В плане рукоделия самое первое что было у вас?
Что-то делала, куклам какие-то мастерила одёжки. Когда я в начальных классах была, бабушка, Любовь Петровна Мамонтова, которая из Ленинграда, нас научила вязать. Причём мы долго к ней приставали, чтобы она нас научила спицами. Она говорила: «Вот день будет – сядем, я вас научу, и вы не уйдёте, пока не научитесь». И так туго было – мы все пальцы стёрли! Что-то повязали, потом успокоились. А потом я уже стала вязать, когда постарше стала, – вот это я вспомнила всё. Я, по-моему, лежала в больнице, там девочка вязала, и мне тоже захотелось. Я попросила, мне принесли спицы и шерсть – я связала себе шапочку и шарфик. Потом сестре. Это где-то пятый класс, наверное, был.
Расскажите про бабушку поподробнее.
Бабушка умела всё! Бабушка у нас считается родоначальницей вообще всех наших творческих начал, поскольку у меня и дядя, мамин брат, и его дети очень рукодельные. Бабушка вязала и на спицах, и крючком. Она нас обвязывала: всякие носочки, салфеточки – хлеб накрывать, салфеточки под приборы. Мы, честно говоря, не очень-то ими пользовались, но они до сих пор у нас есть! Скатерти вязала крючком, одежду (какие-то кофты, по-моему). И шила. Её мама, то есть моя прабабушка, Евдокия, вообще-то из Сибири, из-под Омска, города Москаленки. По легенде, они приехали туда из Крыма, у них была многодетная семья.
Это что-то связанное с депортацией?
Якобы к сестре бабушкиной сватались какие-то… В общем, они якобы оттуда уехали.
Бежали фактически от сватьёв?
Легенда такая, да. И они были зажиточные достаточно. У них, по-моему, пять человек было в семье детей. Любовь Петровна – бабушка. Матрёна Петровна, тётя Мотя, – это которая жила с ними в Ленинграде в одной квартире, которая погибла в войну. Анна Петровна, тётя Нюра, жила в Павловске. Савелий был и Пётр – они в Сибири остались. Родственники там какие-то вроде остались, и мама даже с кем-то общалась, но сейчас у нас связи нет.
Бабушка была белошвейкой, обшивала весь населённый пункт этот. А деда, Петра, расстрелял Колчак, и ему даже памятник стоит где-то в этих Москаленках. Пионеры бабушке писали в советское время и прислали фотографию этого памятника. Но мы там не были.
У меня, собственно, одна бабушка и была, потому что бабушка Юля в войну умерла. Но дед потом женился, в Коломну когда приехал уже. Была такая Елизавета Никитична Зозуля, она какая-то была красная командирша, из Евпатории родом. Она была партийным работником на Коломзаводе, там они познакомились. Нами она особо не занималась. Есть фотография, где она нас на качельках качает. Она уже была достаточно возрастная и не очень подвижная, в сад выходила с палочкой, нам показывала, где какую траву надо рвать.
«Я помню, как мы колготками ловили мальков!»
И вы все жили в этом доме?
Да, улица Островского, дом 13. Но у нас была половина дома. Мы в Коми-то уехали, потом вернулись, сделали ремонт в подвале, и у нас увеличилась жилплощадь. Мы с Юлькой спали наверху, а внизу была комната родителей, кухня, там даже туалет сделали тёплый. Так у нас был туалет – такая пристроечка к дому, холодный, не на улице, а… прямого попадания.
Как сейчас вы вспоминаете жизнь в раннем детстве в этом доме? Хорошо вам тогда было? Или что-то было, что, может быть, портило жизнь?
Мухи портили жизнь! Соседка тётя Соня, жена папиного дяди (дядя давно умер), разводила кроликов. У неё окна выходили на улицу, а у нас выходили во двор, где кролики, – видать, от них мух было полно.
Как боролись с мухами в доме?
Сачком ловили. Выгоняли их, какие-то занавесочки вешали.
То есть не мухобойкой, а сачком ловили? Чтобы потом выпустить?
Нет, не выпустить… У нас ещё были кошки. Кошка у нас появилась в Коми. Причём мы заводили кошек, и они у нас почему-то не приживались: помню, рыжий котёнок был, он чем-то болел и умер… А у мамы была сотрудница, мама экономистом работала, у неё была помощница – она вышла замуж, завела котёночка и уехала в отпуск. А отпуска были большие, и котёночка она нам на время принесла. Ну, кошечка такая, ничего особенного, белая с чёрными пятнышками, на носу у неё было или на глазу пятно. Приехала она, забрала кошечку – кошечка вернулась к нам. Она её опять унесла – она опять к нам вернулась. В общем, тут прижилась. И когда мы уже оттуда уезжали (мы в Коми четыре года жили, я пошла в школу, болела там очень часто), она была беременна, эта кошка Мулька. И мама её везла на поезде, выводила на каких-то станциях, выпускала, говорила: «Ну, если убежит, значит, что делать?» Но она не убегала – делала свои дела и шла обратно. Вот так привезла её беременную, она тут родила. И у нас несколько поколений этих чёрно-белых кошек было.
Коми – большая республика. Как место конкретно называлось?
Верхняя Омра. Мы ехали до Сыктывкара, потом за нами приезжала машина, «козлик», и километров сто мы ехали. Это был большой посёлок. Но он жил именно партией геологоразведочной. Когда мы уехали и партия через какое-то время ушла, мне очень хотелось туда вернуться. У меня такие воспоминания, как мы там гуляли! Гуляли совершенно без присмотра. Там же тайга рядом. Какие-то зэки убегали… Но никто особо не беспокоился, дети гуляли. Там были большие газовые трубы через речку, я помню, мы ходили по этим трубам через реку. Река была очень холодная. И вообще там было достаточно холодно, мы и летом в колготках ходили. И мы, я помню, как мы колготками ловили мальков! А вода очень холодная летом была.
То есть зачерпывали колготками?
Да, да, да! Я не помню, что мы что-то поймали, но пытались. Там их много, мальков этих!..
Что там ещё было? Я помню, что папа приходил на обед и вечером – и каждый раз приносил грибы. Вот он идёт с работы и грибы несёт. И мы эти грибы чистили, сидели. Сушили их и рассылали посылками всем родственникам. За ягодами ходили. Однажды мы должны были поехать на вездеходе за клюквой куда-то далеко. Я так ждала этого дня! На вездеходе мне хотелось очень прокатиться! А накануне мы пошли с дедом просто в ближайший лесок, и меня комары кусали всё время. И они меня до такой степени докусали, что у меня поднялась температура, я вся опухла. В общем, меня не взяли. Я очень до сих пор переживаю: не покаталась я на вездеходе!
Шишки собирали кедровые. У нас стоял ящик посылочный с этими шишками. Зимой возьмёшь, поковыряешь этих шишек.
Мы покупали арбузы мешками! Когда был сезон, привозили в магазин арбузы. Покупали мешок арбузов, они у нас лежали в прихожей.
«Зима, темно, фонари далеко друг от друга, пурга в лицо…»
Мы сначала жили в бараке, а потом нам дали полдома, папа уже приехал, Юля, на следующий год. Я как раз пошла в школу. Мы жили в бараке рядом со школой, а в садик приходилось ходить через весь посёлок. А потом нам дали дом рядом с садиком, и уже в школу надо было ходить далеко. И у меня воспоминания такие: зима, темно, фонари далеко друг от друга, пурга в лицо – я иду, меня чуть ли не сносит. Почему-то я одна иду, может, мы с сестрой в разные смены учились, не помню. Вот я помню этот момент…
На лыжах, помню, мы ходили, и сами, и в школе.
Я там много болела. Меня клали в больницу, что-то во мне искали, никак найти не могли. И бабушка договорилась, что меня в Ленинграде в больницу положат.
То есть она следила за вами?
А как же! Принимала участие! Меня положили в больницу в Ленинграде, а потом отправили в санаторий. И в этом санатории я две четверти была. Это было ощущение, как будто я оттуда никогда не выйду! И это было два года подряд в разных санаториях под Ленинградом.
Было ощущение тюрьмы какой-то?
Да, было… Ну, были какие-то приятные моменты, но общее такое впечатление… Причём меня из больницы сразу повезли в санаторий. Я надеялась, что домой заедем, но у них машина местная сразу туда отвезла. Бабушка, наверное, приходила ко мне в больницу, а в санаторий уже не так часто, но тоже приезжала. Я помню, у меня такая истерика была, когда меня привезли в этот санаторий, в первый день! Санаторий один назывался «Восход», а другой «Солнечный». «Восход» – небольшой санаторий в лесу. А «Солнечный» – большой, прям как городок. Мы там учились. Комната была с подарками от каких-то делегаций – мы учились там. Там были в шкафах какие-то кубки, восковые яблоки – они были как натуральные, и одно было надкусанное: кто-то, наверное, попробовал!
Какие процедуры там были для вас?
На прогревание я, по-моему, ходила… Что-то даже не помню особо… Когда я была в «Солнечном», я была в третьем классе, а там в пионеры не принимали. В третьем классе же всех принимают в пионеры. Меня не приняли. И когда я уже приехала в Коломну и пошла здесь в четвёртый класс, меня принимали в пионеры на линейке общешкольной. Мне так было страшно! То весь класс принимают, а то одна: «А ты что, двоечница? Почему в третьем классе тебя не приняли?»
Это какой год был?
В школу я пошла в 1973 году, а сюда приехала в 1976-м. Было 800-летие Коломны, я это помню.
Расскажите, что помните?
Я помню открытие памятника, который «Пряник» сейчас называют. Он был белый. Толпа народа была. Помню, пушку открывали тоже.
У Музея боевой славы?
Да, гаубица которая на самом деле… По-моему, даже фотографии у нас есть – мама же много фотографировала, у нас фотографий очень много всяких.
Когда вы жили в Коми, скучали по Коломне?
Я не помню, чтоб скучала. Я с родителями жила. У нас был дом на две семьи, его у местных жителей партия выкупила, и в одной половине жили мы.
Геологоразведочная партия?
Да, геологоразведочная партия № 8. В другой половине дома жил бухгалтер с семьёй.
А папа чем занимался?
Папа слесарем был. У мамы я была на работе в конторе. У неё была машинка счётная, я приходила её покрутить, мне интересно было. А ещё у неё был календарь, она там карандашом какие-то даты отмечала. Однажды я пришла и решила маме сделать приятное – всё это стёрла, чтобы чистенький он был. То, что карандашом, у меня стёрлось, а то, что ручкой, не получилось. Я говорю: «Вот, мама, я не до конца стёрла…» Такую я сделала «приятную» вещь.
Мама могла наказать или отругать? И папа? Как вас воспитывали? Какие были принципы, ценности воспитания в семье?
Ну, за что-то нас, конечно, ругали… но как-то не отложилось это. Я помню, дед один раз, не помню, за что, ругал меня. А, вот что я помню! Как-то мама с папой куда-то уехали и меня оставили у знакомых, Андрейченко такие были, они жили в бараке, в другом, более приличном: там было несколько комнат и кухня… или комната тоже одна была. У них была девочка на год меня старше. Они были с Украины. И вот она наказывала свою дочку за любое… я не знаю… коврик сдвинула – уже наказание. И меня тоже, в угол ставила, я помню. И вот эта Наташа всё время врала, чтобы её не наказали, всё время на кого-то сваливала. Потом им дали дом, мы у них тоже были, мы дружили, хотя она больше с сестрой дружила – они меня старше были. И они от меня всегда убегали! Мне было обидно, я за ними бегала по улице.
«Сугробы в человеческий рост. Мы прокапывали норы…»
Зимой мы в сугробы прыгали с крыш сараев. Там такие сугробища были здоровые! Иногда там наносило так, что дверь нельзя было открыть! Сугробы были в человеческий рост. Мы прокапывали там норы или дома строили.
А ещё у нас были кролики. Когда мы в дом стали въезжать, у людей, которые там жили до нас, был сарай с кроликами, и они нам этих кроликов продали. У нас была такая повинность летом – рвать кроликам траву. Но мы её не так много рвали: там было сено, целый сеновал, и сеном этим кормили тоже. Сами ничего не заготавливали, это то, что было заготовлено. Я однажды забыла закрыть или плохо закрыла дверь, и несколько кроликов сбежали. И они нарыли норы, мы видели их следы, но поймать не поймали.
Папа категорически никаких животных убить не мог. Он даже не ел курятину и свинину, потому что у них в детстве были куры и поросёнок, и он с ними играл. И он всю жизнь не ел это мясо. И кроликов он не убивал – приходилось за бутылку нанимать какого-то местного мужика. И у нас, я помню, шкурки были. Я из шкурки (она же без шва, круглая) сделала пальто для куклы, вырезала дырки, правда, без пуговиц, чтобы через голову надевалось, потому что сложно было мне тогда делать пуговицы, петли. Вот я не помню, чтобы я кукол делала, но одевать кукол – это у меня было с детства!
Когда я пошла в четвёртый класс, у нас был труд, домоводство – это был любимый урок у меня! Антонина Васильевна у нас вела, в седьмой школе. И на первом занятии нам показали машинки швейные, ножные и ручные Я сразу за ножную машинку села. Нам показали, как смазать что-то надо, как на ней шить. Я пришла домой и нашла швейную машинку – это было мамино приданное, такая кабинетная, в тумбочке, машинка. На ней стояла радиола, на ней какая-то салфеточка… И там лежали всякие иголочки, ниточки – в двери такой ящичек.
То есть никто её не использовал в доме?
Нет, она как тумбочка использовалась.
Подольская была?
Да, подольская (она и сейчас есть у меня). Я попросила её освободить. Я её открыла, смазала, почистила, разобрала что-то, потом собрала – детальки у меня остались. Но я на ней прекрасно шила! И это меня так захватило! Причём немногие у нас на ножных машинках шили в классе, как-то больше на ручных, а я вот сразу на этой научилась. В школе научилась, дома шила. Сначала мы шили фартук. У меня сейчас фартука этого нет, но тряпочка, лоскут ткани, из которой я шила, у меня до сих пор лежит, мне его жалко куда-то использовать. С яблоками и грушами лоскутик.
Я какие-то сумки шила, помню, вельветовую сумку шила с молнией, сама, дома. У папы был двоюродный брат, Сергей Васильевич Соколов. Он воевал, прошёл до Варшавы. У него была жена, Мария Григорьевна, она работала на швейной фабрике в Коломне. Она шила и дома. И мне так нравилось! Она и маме, помню, какое-то платье шила из кримплена…
А где они жили?
Они жили возле Симеоновской башни, там такой пригорочек – и стоял их дом деревянный на две семьи.
За стеной кремля, то есть на территории кремля?
Там стены-то нет, только башня стоит. Я покажу фотографию – мы на этой башне с Юлькой сидим. Мы туда лазили. Сейчас туда, по-моему, не залезешь особо, и дома этого нет. Рядом дом стоит, напротив, более серьёзный, а это дощатый домик был, и они в нём жили. В этом доме снимали какие-то кадры для фильма «За спичками». Там помещение было маленькое: заходишь – маленькая кухонька проходная, проходишь через неё – и маленькая комнатушка.
Домик был на одну семью?
Нет, на две семьи. А в соседней части жила семья по фамилии Ким. Я не знаю, как звали их отца, он был кореец, а наш папа был любитель пошутить, и он их дочь Зою называл Корейка, Зойка-Корейка. Отец её приехал когда-то в Россию, у него не было подданства (может быть, это он придумал, я не знаю) российского, а потом подал заявку на подданство, чтобы он смог голосовать и избираться.
Он был такой социально активный?
Да нет… У папы такая версия была.
Печка была в этом домике?
Наверное, была. Это просто хибара была, деревянная сараюшка. А территория – общий двор с домом, который сейчас там есть, он граничит со сквером Гагарина. На том месте сейчас стоит забор, где их дом стоял. Он был прямо на склоне, там был огородик, тоже на склоне – совершенно маленькая территория.
«Забудешь накрыть – пуляло прямо до потолка!»
Припомните, что выращивали в огородике в то время?
У них в огородике, по-моему, малина была, что-то такое заросшее – я как-то не очень помню. Я про наш огородик могу сказать, про наш сад. У нас яблони росли. У нас при доме сад был поделён: у нас была четверть, остальное принадлежало соседям. Дом поделён на двоих: половина у тёти Сони – у неё был ухоженный сад, вторая половина была у бабы Лизы и у нас, на двоих. В саду яблони росли, малина. Утром, помню, выйдешь, тёплую малину прямо с куста в рот!.. У нас была яблоня золотая китайка, старая и развалистая, потом её срубили, беседку поставили на этом месте. Но яблоки эти были!.. Они были жёлтенькие, а когда вызревали, становились прозрачные, золотые на самом деле, небольшого такого размера. Была у нас ещё коричная яблоня, на неё мы залезали, когда яблоки созревали, ели прямо с веток. Сидишь на яблоне, она такая развесистая была, – яблочко сорвать и схрумкать было удовольствие! Самое вкусное, по-моему, яблоко – коричное. Когда оно спелое упало, оно ещё вкуснее, но с ветки как-то было приятнее! И мыть не надо!..
Ещё была яблоня – бархатная Черненко, очень красивые красные яблоки с бархатным налётом, когда его потрёшь, налёт исчезал. Это поздние были яблоки, и если сорвёшь это красное яблоко, оно вообще практически никакого вкуса не имело. Но всем же из-за забора видно, что яблоки красивые висят. Однажды была история, уже в старшем классе. Мы с подружкой гуляли вечером. А там рядом артучилище. Идут два курсанта и говорят: «Ой, девчонки, хотите яблочко?» А у них подпоясанные гимнастёрки, и видно их содержимое. Достают, значит, нам по яблочку, я кусаю и понимаю, что это яблочко из нашего сада, потому что оно красивое, но совершенно безвкусное. Я говорю: «Так, где эти яблочки вы взяли?» Они говорят: «Да вон там за углом, полезли на забор, а он упал». Мы заходим – наш забор валяется!
Вы узнали по вкусу свои яблоки?
Я больше этих яблок нигде не видела.
Получается, они из новых сортов, раз Черненко попал в название?
Нет, этот Черненко, я думаю, селекционер.
Как перерабатывали урожаи яблочные?
О, это было!.. Бабушка приезжала из Ленинграда на яблоки к нам, и мы перерабатывали это всё. Она нас не отпускала, пока мы всё это не перемоем, не перечистим. Собирали яблоки, которые падают, и сушили, варили их – варенье, пастилу. Бабушка смокву делала, пастилу. Когда история с пастилой-то у нас развернулась, я говорю: бабушка моя это давно уже делала! Она не пенную пастилу делала, а именно смокву. Как это делалось? Сидели, чистили яблоки, резали их. Потом в тазике под крышкой они разваривались, потом надо было их в пюре протереть – это самая, по-моему, сложная была история. Яблоки размягчались, из кастрюльки в сито попадали – волосяное было сито, деревянное, большое, – и их надо было протирать толкушкой.
Это дети делали?
Это все делали. Надо было толкушкой протирать, пока пюре не провалится, на сите остаются шкурки. Потом пюре уваривалось на газу, надо было постоянно его мешать. У нас был тазик алюминиевый, толстостенный – вот в этом тазике всё делалось, уваривалось. Долго уваривали. Причём чем больше пюре уваривалось, тем больше плевалось – надо было накрывать обязательно. Забудешь накрыть – пуляло прямо до потолка! На потолке были пятна. До какого состояния уваривалось – я не знаю, бабушка определяла. Мы, дети, – порезать, протереть только. Бабушка уже всё уваривала до конкретного состояния. Потом – противень, на него промасленную бумагу, намазывала на неё пюре, бороздки ножичком намечала, чтобы потом было это легче снимать – не пластом, а квадратиками. И в духовке приоткрытой, на маленьком огонёчке, это дело усыхало, тоже до какого-то состояния конкретного.
Духовка-то была газовая?
Да. Двухконфорочная у нас была плита и духовка газовая. Иногда голову сушили в духовке, волосы: откроешь, там горячий воздух.
Не помните, сколько пастилу сушили?
Нет, не помню.
Наверное, антрактным способом – посушили, потом через какое-то время…
Мне кажется, сплошняком. И в конце пастила была усушенная до какого-то состояния. Вытаскивали противень и бумагу отдирали, причём она не всегда отдиралась почему-то! И потом она стопочками складывала в картонные коробочки, например, от чая, от сахара кускового. И это всё хранилась. В сахаре, по-моему, она не обваливала.
Сахар-то шёл в рецепт?
Нет, без сахара.
Самое главное – про вкус этой пастилы!
Вкусно!
Это было для вас лакомством? Или рядовое угощение?
Я помню, что гости приходили постоянно, и это как-то доставалось. Но постоянно, мне кажется, не стояло на столе. Девчонки, мои подруги, это помнят всё!
А ещё из китайки варенье варилось, но это другая китайка, у нас в саду росла, у неё яблочки были красненькие. Здоровое дерево – этой китайки просто немереное количество падало! Мы собирали. У яблока была длинная ножка. Мы их мыли, выбирали целенькие, ножки укорачивали ножницами и накалывали вилкой шкурку, чтобы не лопнули. Потом в сиропе бабушка это варила. Причём сироп сначала был не очень насыщенный: очень насыщенный сироп в яблоки хуже как-то входит, больше вытягивает сок. Сначала в сиропе слабеньком, потом туда сахар добавлялся, чтобы он был погуще.
Этим бабушка занималась?
Бабушка. Но мама тоже делала. Получалось варенье с палочками. Какое-то количество оставалось в сиропе, как варенье, но большую часть она вынимала из сиропа и сушила их – это были цукаты. Потом она их обваливала в сахаре. И тоже в коробочках хранились – не в банках, а вот как цукаты.
То есть внутри семенная коробочка оставалась?
Да. И съедали – одна палочка только оставалась, потому что эти семена очень вкусные! Они не мягкие, но… в общем, вкусно! Ну, кто-то оставлял огрызок, но большей частью съедали всё, палочку оставляли. Тоже девчонки мои очень хорошо помнят эти угощенья. Я ещё помню, делали конфеты самодельные из детского питания.
Расскажите, что брали. Яблочное пюре готовое?
Нет. Детское питание, сухое такое, «Малютка» что ли. Туда какао добавляли, масло тоже – такие шарики делали– и в коробочки от конфет это всё укладывалось.
Это чей рецепт был?
Я даже не помню. Делала мама.
Вас тоже привлекали к таким ручным конфетам?
Да. Помню, мы ещё пекли печенья всякие, песочные… У нас была мясорубка с насадками разными фигурными: крутишь – и вылезают всякие формы из теста, в сечении разные. Нарезаешь их, выпекаешь.
А, ещё яблоки сушили! Почему-то мы их сушили на верёвочках. Их надо было нарезать ровными кусочками, нанизать на ниточки – и у нас такие гирлянды сохли в саду, в беседке. Потом тоже посылками родственникам отправлялось. Наволочками практически! Очень много было этого всего.
А что в ответ получали вашим съестным посылкам?
Не знаю… Бабушка, во-первых, увозила в Ленинград, там тоже родственникам это раздавалось. Не знаю, что в ответ было. Любовь! Любовь – она всегда была.
«…такая с электрикой у меня была любовь…»
Вы чувствовали, что ваша семья в каком-то смысле отличается от других семей? И в чём это отличие?
Семья, конечно, особенная была, потому что мама фотографировала много и потом печатала. В детстве, я помню, когда она печатала, мне было скучно, как-то грустно. Она в темноте сидит где-то на кухне…
А как был организован у неё процесс печати? Почему на кухне? Там не было окон?
Момент, который я вспомнила, был до Коми. А когда мы уже приехали и подвал отремонтировали, она печатала в прихожей внизу, там окон не было. У неё был аппарат, красная лампа. И я печатала тоже, кстати, и фотографировала.
С какого возраста?
Подростком я уже была. Я помню, такой момент был. Мама разводила фиксаторы, доставала этот аппарат, ставила и куда-то уезжала и оставила, чтобы я попечатала. А перед этим она купила новую лампу и сказала: «Соедини новую красную лампу вот здесь и печатай с новой лампой». Я соединила: два проводочка отсюда и два отсюда – и хорошо заизолировала вместе. И потом решила печатать. Включила эту лампу – и у меня вырубило свет во всей нашей части! Это было днём, папа пришёл на обед, всё починил. Вот такая с электрикой у меня была любовь! Мама говорит: «Ты только хорошо заизолируй». Я хорошо заизолировала! Мне не сказали только, что отдельно надо! Видимо, тогда ещё до физики у меня дело не дошло!
Получается, если мама оставила вас на самостоятельный опыт, до этого она вас обучала?
Да, мы вместе печатали, то есть я знала, как резкость навести… Ну, растворы были разведены…
То есть в каком моменте вы принимали участие? И что вам больше нравилось в этом процессе?
Да мне вообще нравилось! Наверное, интересно, когда всё проявляется – интересно, что получится. Иногда даже бывает, что не понимаешь, что вообще там изображено – оно же в таком виде маленькое, а когда увеличиваешь, что-то видно, но оно в негативе. А когда напечатала – о, понятно, кто это! Интересно! У нас глянцеватель был – тоже интересно было глянцевать, накатывать.
Кто-то ещё из членов семьи фотографией занимался?
Я не помню, Юлька печатала или нет…
И как часто разворачивалась эта лаборатория?
Это дело-то достаточно трудоёмкое – развернуть, поставить. Наверное, что-то набиралось, потом печатали.
Раз в месяц или раз в год?
Не могу сказать. Но не раз в год, чаще. Интересные есть фотографии. В Ленинграде, например, мама работала тогда, она отпросилась прийти попозже – хотела пофотографировать Ленинград (у неё много фотографий Ленинграда). Она едет на автобусе и видит толпы народа. В чём дело? Она вышла. А это Гагарин полетел в космос! И вот это ликование – она это всё фотографировала, людей этих восхищённых.
Это ещё до её переезда в Коломну?
Да, 1961 год. Ещё у неё есть фотография, как Фидель Кастро едет на машине. Она очень много ходила на всякие концерты. У неё есть фотографии молодых поэтов: Роберт Рождественский…
Здесь нужно сказать, что мы взяли интервью у Нины Яковлевны и можно посмотреть это видео.
«Тебе автоматом поставили: ты же победила в этом конкурсе!»
Давайте вернёмся в ваше школьное время. Какие ещё предметы нравились?
Математика! Математика – это любимый предмет тоже был! У нас был факультатив, на который ходили те, кому это нравится. И уже в старших классах мы решали институтские задачи из высшей математики.
Приходили преподаватели из института?
Нет, наши учителя. Инна Николаевна у нас была сначала, до восьмого класса.
Я помню первую свою учительницу – Зароченцева Маргарита: когда из Коми мы уехали, я с ней долго переписывалась, даже когда замуж вышла. У неё был такой красивый почерк, у меня её письма сохранились. Она написала, куда ребята поступили. Причём у меня нет ни одной фотографии из начальной школы, потому что я болела. И потом уже, когда время прошло, мне очень хотелось… Когда «Одноклассники» появились, я стала искать своих одноклассников. И я нашла! Сначала мальчика нашла, но он не захотел общаться и дал ссылку на девочку. Она живёт в Петербурге, и мы с ней даже встречались, Лидия. Когда начали общаться, я говорю: «Я в этом классе училась». Она говорит: «О, я помню, Аня Баркова у нас была, но она всегда болела!»
Как вы думаете, каким-то образом повлияли на вас впоследствии ваши школьные годы?
Если взять труды, то напрямую повлияли!
То есть именно благодаря школе у вас возникло увлечение шитьём?
Я думаю, что не только благодаря школе, а всё-таки бабушке тоже. Бабушка, кстати, во взрослом возрасте окончила курсы кройки и шитья.
Что под её руководством вы делали? Или у вас у каждой своё было творчество?
Мне кажется, только вязали под её руководством когда-то… Мы же жили в разных городах, она же приезжала только на яблоки! Ну, не только на яблоки… В каникулы мы ездили в Ленинград. Например, на новогодние каникулы мы приезжали, нам покупали билеты в разные цирки, театры, и мы практически каждый день ходили на какие-то мероприятия.
Приезжали всей семьёй?
Наверное, мы с мамой, когда-то с папой, иногда нас одних отправляли, уже когда постарше мы были; Юля потом там училась в медицинском техникуме, потом она пыталась поступить в медицинский институт, но не набрала баллов. Да, пошла в техникум, хотя у нас в Коломне есть своё училище, но она училась там, под бабушкиным присмотром.
Бабушка была строгим человеком?
Ну, видимо, она её держала: училась Юля хорошо, окончила с красным дипломом. И до сих пор работает медсестрой. Видимо, хорошо выучили.
Вы окончили десятилетку?
Да. И я не знала, куда мне пойти. Я очень боялась экзаменов! Собиралась в пединститут идти, на технологический факультет, но боялась экзаменов. А надо сказать, что в 9–10-м я училась в УПК – это вместо трудов, учебно-производственный комбинат, куда мы раз в неделю ходили: целый день у нас был такого обучения. Там класс по разным специальностям расходился, то есть из разных школ собирали группы по интересам.
Давали выбор, куда пойти?
Я изначально писала на портного, но почему-то, когда мы туда пришли, просто из толпы взяли – кто успел, тот успел. На портного я не успела, пошла на швею-мотористку. Но у нас программа была совершенно одинаковая. Причём большей частью класс пошёл на штукатуров-маляров. Ещё были продавцы. В принципе, шли по интересам, только в штукатуры пошли те, кто, наверное, не знал, куда пойти, или в другие группы не попал. Значит, у нас была программа одинаковая с портными, но практику мы приходили в разных местах. Практика была там же, в УПК. Мы шили рукавицы. Это было там, где сейчас МФЦ, изначально это была школа № 26. Потом это был УПК, межшкольное обучающее производство.
Это конец 70-х – начало 80-х?
Это 1980-е, с 1981-го по 1983-й, 9-й и 10-й класс. Разные кабинеты: здесь учатся портные, здесь мы. У них тоже машинки были, а у нас целый цех машинок был промышленных, и мы там строчили рабочие рукавицы. Причём нам за это деньги платили. Стоило это 2 копейки за пару. Нам крой давали с производства – и мы строчили эти рукавицы из брезента.
Две копейки – это ваш заработок?
Да. Мы там две недели работали в две смены. И у нас было соревнование со второй сменой – кто больше сошьёт. Я не помню по количеству сшитых рукавиц, но зарплату я получила – 7 рублей. Это была одна из самых больших зарплат.
За две недели? Ежедневно?
Да, по 4 часа в день. Ещё мы шили, по-моему, наволочки и простыни. Зарплату получали там, где сейчас фирма «Валерия»: сейчас они одежду шьют, а раньше они шили больше такой вот ассортимент…
То есть по их заказу вы это делали?
Да. Они кроили, а мы строчили. У нас некоторые по рублю заработали. Мы ходили туда в кассу, получали зарплату.
Это вместо уроков или в каникулы?
Это в каникулы практика, в летние, между девятым и десятым классами у нас практика такая была. Кто учился на поваров, они в каких-то столовых чистили картошку, то есть им больше ничего не доверяли. А те, кто на портных учился, какие-то халаты шили для организации, которая сейчас «Кадотекс» называется: они шьют спецодежду. Они, собственно, и тогда, наверное, спецодежду шили, на Гранатной улице.
В УПК кроме цехов швейных что ещё было?
У продавцов был свой кабинет, у штукатуров свой – что-то они изучали тоже. Мы же не только строчили рукавицы, у нас был обучающий план: мы образцы каких-то элементов одежды делали. Ещё мы должны были изделие шить выпускное, экзаменационное. Потом экзамен был, когда мы учились в УПК. Мы же приходили на целый день туда, то есть один день в неделю у нас был УПК – теоретическая часть в течение учебного года: устройство машинки… Ещё был конкурс «Лучшие по профессии», кого-то делегировали, кто хотел… в общем, я пошла на этот конкурс. Там была теоретическая часть и практическая. И в теоретической части я столько написала всего – не только то, что мы проходили, но и из моего опыта какие-то моменты, – что мне потом сказали: «А вот это ты где взяла?» Я говорю: «Ну, это у меня приобретённые знания». Я победила в этом конкурсе, но мне даже никакой бумажки не дали. Но когда к экзамену надо было шить изделие, и я начала что-то шить, я попала в больницу – мне вырезали гланды. И как раз я выхожу – и в этот день экзамен. А мне даже говорить больно было, и я на экзамен не пошла, думаю: из больницы сразу на экзамен идти как-то не очень! Тем более, у меня не было дошито это изделия. Может быть, я бы и пошла, если бы оно сшито было. Ну, думаю, может быть, в другой раз я сдам. А мне говорят: «Тебе автоматом поставили: ты же победила в этом конкурсе – и тебе автоматом поставили!» То есть я вот так сдала экзамен!
«И я пошла на лёгкое платье»
По поводу учёбы после школы. Когда мы в УПК сдали экзамены – это было раньше, чем экзамены в школе, – я зачем-то туда зашла, уже они не работали. И там завуч говорит: «А ты куда собираешься идти?» Я говорю: «Да я не знаю, я хочу в пединститут, но я экзаменов боюсь». Она говорит: «А ты иди на портного». И я стала разговаривать с женщиной, которая вела у портных, и оказалось, что есть УПК не межшкольный, а учебно-производственный комбинат бытового обслуживания в Голицыне. И в Коломне есть учебная группа, как бы его филиал. Я говорю: «Экзамен надо сдавать?» Она говорит: «Не надо». Я говорю: «О! Это то, что мне надо! И профессия на всю жизнь!» И я туда пошла, сдала документы на портного лёгкого платья. Эта группа находилась в Бочманове (не знаю, что сейчас там), помещение какое-то не очень презентабельное. Там ещё рядом кинопрокат был, здание одноэтажное, за поворотом на Старо-Голутвин монастырь, деревянное одноэтажное здание – вот мы там учились. Там были специализации: портной лёгкого платья, портной верхнего платья и закройщики. На закройщиков брали только тех, кто уже работал портным. И я пошла на лёгкое платье.
Как семья это решение приняла? Это обсуждалось?
Как-то…хочешь – иди туда. Дядя мне сказал, который в Ленинграде: «Ведь студенчество – это самое интересное, что в жизни случается!» Но я как-то так решила, пошла, год отучилась.
Интересно было? Вы не пожелали?
Да, да. Я очень довольна, что я эти знания в руках имею. Я, кстати, в школе пыталась пойти на курсы кройки и шитья в Доме пионеров. А Дом пионеров был в Пионерском парке, где сейчас отделение Союза художников. И одна пошла, в старших классах это было. Мне сказали: «Девочка, мы только взрослых сюда берём!»
Это же Дом пионеров!
Но курсы кройки и шитья были для взрослых. И я ушла. Но я, ещё в школе когда училась, ходила на курсы по вязанию в Доме Озерова, они были двухгодичные. Мы вязали спицами и крючком, изучали выкройки. Образчики у меня до сих пор где-то есть, милипусенькие – большие мне лень было вязать. Я, кстати, очень много вязала вручную тогда.
Когда я отучилась на портного, работала в ателье. Я с отличием окончила, и мне дали сразу четвёртый разряд. Всем давали третий, а у меня был повышенный разряд сразу. От этого и зарплата на три копейки больше была (вообще, конечно, зарплата была мизерная в ателье). В девятом ателье я работала.
Вам пришлось искать работу? Или вас нашли?
Нет, мы там проходили практику, в этом ателье, на улице Дзержинского (там сейчас магазин «Кардинал», от магазина-«аквариума» в сторону детской больницы).
Ателье по городу было много?
Много. Это было даже не ателье, а служба бытового обслуживания.
Дом быта?
Нет. Дом быта – это когда одно здание и там всё. А здесь главная контора была здесь недалеко, где аптека (там, по-моему, канцелярский магазин сейчас), на ул. Яна Грунта, – бухгалтерия, руководство там сидело. А им подчинялись ателье.
Кто обращался в эти ателье? И что заказывали обычно?
Да всё заказывали! Шили одежду. У нас была бригада: закройщик, бригадир, смётчик (он был один на несколько бригад). То есть закройщик принимает заказ, измеряет, обсуждает фасон, потом раскраивает и отдаёт смётчику. Смётчик смётывает, потом закройщик примеряет – приходит на первую примерку человек, – он какие-то изменения вносит и отдаёт бригадиру. Бригадир подготавливает к подкрою – какие-то ниточки прокладывает, где какие изменения были внесены. Закройщик потом это осноровывает и отдаёт уже в бригаду. Я была ручником, то есть я смётывала. Потом моторист строчила по моим линиям смётки. Оверлок, утюг – это всё делала я. Такая бригадная работа. Я всё время вспоминаю: пуговицы пришиты насмерть, не оторвёшь! Потом вторая примерка – рукава уточнялись и талия. И потом это всё собиралось. Этот способ, когда один человек делает одно, другой другое, мне не нравился. Потому что, допустим, моторист где-то там вильнула, прострочила неправильно – идёшь перестрачиваешь. Мне больше нравится, когда с начала до конца делает один человек – собственно, этим я сейчас и занимаюсь.
Бригады большие были в этих ателье?
Ручников, наверное, трое или четверо было.
Они так и назывались официально?
Не знаю… «портной» у меня написано…
У вас постоянно была загрузка по заказам? Это 80-е же, получается?
Да, заказов было много, но были моменты, когда не было заказов, тогда мы шили массовку. Это на продажу был магазин у организации – на рынке (где сейчас авторынок), там продавались плащи, я помню, мы шили пальто из болоньи на синтепоне. Тогда синтепон только появился, это был дефицит. Материалы, которые в ателье продавались, дефицитные, мы купить не могли.
А вы – это кто?
Работники. Себе мы не могли купить, мы могли только оформить заказ по минимальной цене – за ткань и работу. Вот так только можно было выписать материал. Например, ткань лаке такая была – как плащёвка, только очень тоненькая и блестящая.
Кто её производил?
Я даже не знаю… Тогда, кстати, импортных тканей много было.
Откуда в основном импортные приходили?
Не могу сказать. Трикотажи с люрексом – это был прямо писк! Я помню, 30 рублей ткань стоила, за метр, – достаточно дорого. Из них платья шили.
Какие цвета были модные в то время? Была же мода?
Мода была, но чтобы какие-то конкретные цвета были, я не помню.
Кто заказчиками были в основном?
Мы же не общались напрямую с заказчиками, закройщик общался с ними. Ко мне обращались шить, напрямую, например, одноклассница, рядом жила. Её мама говорит: «Ой, сшей девчонкам сарафаны, – у неё ещё была сестра, – у меня ткань с бабушкиных времён лежит. Что лежит-то? Сшей!» Я сшила – мне дали шоколадку!..
Это когда вы уже после обучения работали?
Да.
То есть тогда подработкой не получалось это сделать?
Нет. Ну, себе я шила, подружкам.
«Умер Брежнев… И сказали, что свадьбу играть можно, но без музыки»
Надо сказать, что ещё в школе когда я училась, сестра замуж выходила, и я ей сшила свадебное платье.
Она осталась довольна?
Да. У неё муж военный, в Германии служил. Он приехал в отпуск, они решили пожениться, подали заявление, а отпуск-то небольшой, но военным разрешали ускорить регистрацию: допустим, положено два месяца или три ждать после подачи заявления, а у него отпуск всего, скажем, 40 дней. Я уже не помню, почему я-то стала шить… То ли не было платьев, то ли я такая смелая!.. В общем, купили ткань, надо было быстро сделать. Я не успевала. Раскроила, померила… А я же в школе учусь – у меня ни оверлоков, ничего нет, но это как-то особо нас не остановило. И тут умер Брежнев… И сказали, что свадьбу играть можно, но без музыки. Тогда решили перенести на неделю – и я платье успела дошить! Конечно, сейчас я смотрю на это платье…
Купить ткань было сложно, которую хочешь?
В принципе, были ткани. Я помню, магазинов у нас было много тканей.
Какие для вас были самые хорошие магазины тканей в Коломне в то время?
Здесь был магазин, напротив Ленина, где исполком, красное здание: здесь был и раскрой – можно было купить и сразу раскроить. Но я этим не пользовалась. Был магазин на Окском проспекте (там сейчас компьютерный) – вот туда я чаще всего ходила, потому что я там работала рядом.
То есть даже в близлежащих магазинах было всё, что нужно?
Не знаю, всё ли было, что нужно, но покупали. Но что-то дефицитное покупали в ателье и даже переплачивали.
Сколько вы проработали в этом ателье?
До декрета, года, наверное, три.
За эти три года ваше положение как-то менялось? Или вы как были ручником так и остались?
Да.
То есть не было возможности двигаться?
Нет, можно было пойти учиться на закройщика – это опять же год. Но в тот момент нашу учебно-производственную группу закрыли в Коломне, и надо было ездить учиться в Голицыно. А я, по-моему, тогда замуж уже вышла – и так и осталось неучем.
Где вы познакомились с будущим мужем?
Я познакомилась с его сестрой двоюродной. Но он к ней приходил – вот так и получилось.
Я, кстати, ещё поступала в институт лёгкой промышленности в Москву. Но я не набрала баллов и почему-то пошла опять в пединститут. Это я ещё не замужем была. Я хотела с этими оценками поступить в пединститут, но поскольку я там сдавала химию, а здесь нужно было физику сдавать, то с этими оценками я не смогла. Я пошла на подготовительный и, короче говоря, поступила в пединститут на технологический факультет.
А зачем это вам нужно было?
Мне хотелось образование всё равно получить! Но я там не доучилась, поскольку вышла замуж, родила. Два курса отучилась. Но мне интересно было учиться! Мы там строгали, на токарном станке какие-то детали делали, какие-то совки гнули из металла – интересно было.
Там тоже свой цех был производственный?
Да. Но ребёнок родился – и не получилось дальше учиться.
Сейчас об этом немножко жалеете?
Да. Но я потом ещё выучилась на бухгалтера, когда уже работала на мебельной фабрике. Я ещё и в кооперативе поработала – тогда же были кооперативы, – когда ещё в декрете была, стала работать надомницей: ночами строчила из «варёнки» куртки, юбки.
Чем кооператив от ателье отличался?
Кооператив – частное предприятие.
Тоже принимали заказы?
Нет, там массовка была. То есть мне привозили крой, я шила, потом это всё забирали в кооперативный магазин, потом я приезжала, мне говорили: «Денег нет»! В общем, так мне и не доплатили 300 рублей – по тем временам это были деньги.
Но вы официально были устроены?
Да. Декрет тогда был до года или до полутора. Мы снимали квартиру в Запрудах, в военном доме девятиэтажном. Наши хозяева жили в Германии, служили, у них была двухкомнатная квартира. И в одной комнате их вещи были заперты, а мы жили в одной комнате и в кухне – в общем, как в однокомнатной квартире. Причём мы жили на седьмом этаже, а лифт работал с шести утра, по-моему, до десяти вечера. Там была лифтёрша, и если позже десяти пришёл, то с коляской идёшь на седьмой этаж!
«Надо было экзамен сдавать на благонадёжность!»
А как вы отдыхали?
Когда я ещё не была замужем, я ездила в путешествия по линии профсоюза. Была ещё такая молодёжная организация «Спутник» – как профсоюз, только дешевле и как-то попроще. Я ездила в Германию в 1986 году в январе – ой, это была такая подготовка! Надо было экзамен сдавать на благонадёжность! Спрашивали политику партии, мы что-то учили, приходили в «Белый дом», сдавали этот экзамен.
Это туристическая поездка?
Да, но через такую процедуру. И давали заграничный паспорт, забирали советский; потом мы вернулись и поменяли обратно. До Бреста мы ехали на поезде, в Бресте сели в автобус и через Польшу на этом автобусе ехали. Сначала в Лодзи у нас была остановка. Но мы очень долго простояли на границе. У нас было запланировано какое-то предприятие промышленное, встреча с работниками…
Всё-таки это немножко деловая была поездка?
Нет, это по линии «Спутника». Причём у нас в группе были четыре человека из разных ателье, а в основном были с сельского хозяйства, из деревни: механизаторы, дояры, одна дама работала экономистом в объединении «Гжель». У нас были комнаты, по-моему, на четыре человека – вот мы вчетвером там и тусовались.
Это всё 20-летние, плюс-минус, были люди?
Нет, были разные, но в основном до 30, мне кажется. Мы приехали в Лодзь уже вечером, и экскурсии по предприятию не было, было поздно. Нас в гостинице накормили сразу обедом и ужином – мы просто вот с такими животами оттуда вышли! И потом всё-таки нас повезли на это предприятие, у нас была встреча, вечером. Были накрыты столы буквой «П», и там очень красивые пирожные были. И водка. Ну, чай и водка. Я помню только это – обеда не было. И танцы. Причём поляков было мало, все уже разошлись. Мы потусовались. Водку я не пила тогда, да и сейчас, собственно, не особо, но мы попробовали, пригубили. Мужики сказали, что наша лучше. Ну, я в этом не разбираюсь. А пирожные – они лежат, и они все разные. А как выбрать-то?! У нас если дают, то всё одинаковое. А тут всё разное. И мы стали: давай, ты вот это возьмёшь – я откушу, а я вот это – ты откусишь. И пирожные эти такие красивые были, но на вкус – никакие! И все одинаковые! Вот это я помню очень хорошо.
На следующее утро мы поехали в Германию. Мы там перемещались: были во Франкфурте, в Наумбурге…
Кстати, с поляками на каком языке общались?
На русском. Они хорошо говорили на русском. Я даже с поляком там задружилась, у меня есть фотографии его – с такими усами! Роман, он мне адрес написал, но я ему как-то не стала писать…
А само предприятие посмотрели?
Нет, поздно уже было. По-моему, какое-то текстильное предприятие. Наверняка мне было бы интересно. Но не получилось. В Германии поразила чистота на улицах. Мы в разных местах были. Во Франкфурте снега не было. У меня есть фотография: переход ждёт детский сад. А детский сад – это такая колясочка, и там сидят то ли четверо, то ли шестеро детей, в одной колясочке. На какое-то предприятие сельскохозяйственное мы ездили на экскурсию: какие-то ангары большие… Меня это не очень интересовало. В Берлине мы не останавливались, ехали мимо, просто в окошечко «посмотрите направо, посмотрите налево». В Наумбурге был снег; там нас тоже заселили в гостиницу вчетвером, дали нам карточки гостиничные. Мы заходим в номер вчетвером, а там две кровати. Мы позвали служащих: где спать-то? Из-под кровати выезжает ещё одна кровать – вот так разложили и таким сплошняком спали. Это была молодёжная гостиница, по-моему, стоила эта вся поездка 500 рублей.
Вам кто-то помогал собрать деньги? Или вы на заработанное?
У меня была страховка – страхование к совершеннолетию тогда было: мама каждый месяц платила. Набралась какая-то сумма, по-моему, 300 рублей. И потом я ещё туда докладывала – и вот накопила на эту поездку.
А сколько копили по времени? Год? Как долго вы планировали эту поездку?
А я не то что планировала: накопились деньги – и такое предложение появилось. И я поехала.
Сомнений не было, что такая крупная сумма… Наверное, это считалось крупной суммой?
Нет, это была нормальная сумма. По профсоюзной было дороже.
Не помните зарплату свою месячную?
Зарплата была у меня рублей 80, то есть до 100 рублей, даже 60 как-то было.
Этого хватало на жизнь?
Ну, я с родителями жила поначалу. А потом муж – он больше получал, он работал фрезеровщиком на Коломзаводе.
Что ещё запомнилось?
У девушки, которая из Гжели, было полчемодана гжельской керамики! Она хотела подзаработать.
Не подарки?
Нет, она хотела, мне кажется, продать, но у неё ничего не получилось, и она всё раздарила. Мне достался Иван-царевич на сером волке и ещё фигурка женщины с ребёночком и с газетой. Когда я работала на мебельной фабрике, жена моего начальника собирала гжель: таого у неё не было, и я подарила что-то из этого. Тогда же модно было собирать что-то дефицитное.
А вы что-то собирали?
Я собирала значки с олимпийскими мишками. Олимпиада-80, у меня такая прям коллекция была!
На саму Олимпиаду ездили?
Нет, смотрела по телевизору.
Ещё я ездила во Львов, тоже в 1986 году, после Германии, в конце лета, наверное. Это была на выходные поездка, на самолёте. Мы жили в каком-то старом-старом доме, я так и не поняла его конструкцию: чтобы найти свою комнату, надо было какими-то сложными путями пройти, с компасом. Дом выходил во двор окнами, он был квадратный, а внутри двор. Мы были в Стрийском парке (причём я ездила с фотоаппаратом, но в тот момент я почему-то не взяла его), там такая арка – прям летящая, как будто парит, я помню это ощущение. По какому-то кладбищу нас водили – там очень интересные памятники были. Помню базар – и керамики там!.. Кувшинчики, кувшины какие-то – мне так хотелось это всё купить! Но в самолёте везти… в общем, я не купила. Но помню ощущение этой керамики, такой живой. Я накупила фруктов домой, еле довезла: виноград, груши. И впечатление очень хорошее оттуда было. Ещё на рынке были книги, и книги дефицитные, то есть у нас этого ничего не было.
Не было или сложно было достать?
Сложно было достать.
«Нам не хотелось расставаться – организовали клуб лоскутного шитья»
Где сейчас музей пастилы, там был магазин «Стимул» в 80-е годы или в 90-е. Туда надо было сдавать макулатуру, вторсырьё, взамен давали талончики, и на какое-то количество талончиков там можно было, например, китайские полотенчики, термосы, книги купить. У нас всё уходило в книги.
Это там же приобреталось? Или уже в книжных магазинах?
Нет, мне кажется, там же. То есть туда привозили, и это тоже не лежало: набрал талончиков, заходишь и, если привезли, то ты можешь купить. Не то, чтобы поменять на талончики, а талончики и деньги к ним.
Какие книги покупали? За чем особенно охотились?
Сказки, по-моему, трёхтомник, сказки народов мира. Какие-то ещё были книги…
А после того, кстати, в этом здании был выставочный зал, после «Стимула». У меня есть свидетельство об участии – у меня выставка там была в 2002-м.
Там, где сейчас гостиная музейная?
Да. Там было два зала. Мой зал был большой.
Это были выставочные залы Союза художников?
Нет, это был зал от Дома Озерова. Я тогда уже начала заниматься лоскутным шитьём, когда у меня родилась дочка. Конечно, я шила когда-то что-то из лоскутиков, но это прям такая дата: родилась дочка, мы сделали ремонт в комнате, у неё кровать стояла – и стык обоев. И когда ей делать было нечего, не спалось, она начала отрывать обои. Я прихожу – у неё в кровати лежит кучка бумажек. Я их наклеила, собрала этот пазл – она опять стала отдирать. Уже там, смотрю, не хватает: что-то она пожевала, что-то потерялось… Ну, думаю, она же будет дальше это всё драть и драть – надо чем-то стенку загородить, дырку в обоях (как в мультике «Простоквашино»!). Я тогда работала на мебельной фабрике, и мне как-то показали способ сшивания лоскутиков: одна на курсах была, смотри, говорит, как легко. Я сшила на пуфик чехольчик, а потом стала журналы по пэчворку покупать, это же всё было тогда дефицитно. Я по журналу сшила коврик на стенку. И меня это очень захватило. Прям заболела! Я столько нашила всего! Я ей и на одну стенку сделала, потом на другую, покрывало сшила, одеяло сшила – в общем, я сшила много уже.
А потом я попала в Школу ремёсел. И так там всё было интересно! И я туда стала ходить. Мне всё равно было, на какие курсы ходить – мне хотелось туда! Там такая атмосфера была! Я там и костюмы шила какие-то, и мы сидели резали эти лоскутики, на стены наклеивали, в общем, там был очень хороший коллектив.
А они находились в каком месте?
Они и сейчас там, на Чкалова, 24.
Вроде как одно время они находились прямо в этой квартире. Приходила бывшая руководительница, Крылова, и она сказала, что у них здесь были помещения Школы ремёсел в 1980-е. А вы говорите про начало нулевых?
Нет, Сашка родилась в 1996-м. Я не знаю насчёт этого помещения, но до того, как я ходила, помещение было в каком-то подвале, от домоуправления – они там сначала занимались. Это были просто курсы. А потом это здание появилось. И вот интересно ещё: я зашла однажды в помещение, где занимались лоскутным шитьём, обучали. Я посмотрела: ничего особенного там не делают, я это всё умею. Но там были книги! Я думаю: как попросить книги? незнакомому человеку же не дадут? А они уже там занимались какое-то время, прошли какую-то часть курса. И я записалась на курс лоскутного шитья, стала туда ходить. И, допустим, мы проходим треугольнички – я раз! – и одеялко принесла с треугольничками. Так смешно было потом вспоминать: кто-то прихваточку принёс, а я – одеялко или коврик!
Мы позанимались на этом курсе, потом он закончился, но нам не хотелось расставаться – организовали клуб лоскутного шитья. Встречались сначала в Школе ремёсел. Было нас человек 15, наверное. Потом кто-то умер, кто-то уехал – человек 10 оставалось. Потом встречались в восьмой школе, а в пандемию перестали встречаться. Мы коллективные работы делали – у нас были такие работы!..
Книжки дали в итоге?
Да! Школа ремёсел, по-моему, сначала под образованием была, под соцзащитой была – металась, куда пристроиться, чтобы удержаться; и в тот момент, когда она была под соцзащитой, было предложено мастерам заниматься в каких-то учреждениях.
На каких началах? На добровольных?
Нет, там платили небольшие деньги. Я пошла в школу, которая рядом с пушкой, по-моему, № 22, рядом с трамвайными путями, двухэтажная. Там было общество «Колокольчик» для детей-инвалидов и из многодетных семей. Они по субботам встречались там, у них были и мастер-классы, и дни рождений они отмечали, праздники. А я тогда занималась солёным тестом, был у меня такой период очень захватывающий: дома так пахнет выпечкой – а тут тебе солёное тесто! Я не только солёным тестом занималась, ещё всякие бутылки шпагатом обкручивала, делала шкатулочки – шпагатом или лоскутные.
«Столько работы было вложено, что святотатством было что-то выкинуть»
Кстати, момент, когда используешь то, что практически является мусором, – это во мне очень крепко сидит. Причём всегда. Лоскутным шитьём когда я стала заниматься, я что использовала? Одежду старую, и мне все стали нести барахло. Причём я не отрезала швы, а распарывала, потому что, мало ли, этих двух сантиметров мне и не хватит. Всё это стирала, складывала, подбирала по оттенкам. Кстати, в Школу ремёсел тоже много приносили барахла старого, и всё из этого шилось. Из ткани я, конечно, тоже шила, но мне вот это ближе.
Почему такая потребность?
Это генетически заложено, я думаю. Как раньше жили? Помоек же не было, скажем, в крестьянском хозяйстве. Мусоровозы не ездили на полигоны. Допустим, вырастили сами лён, сами спряли, соткали, сшили – не было же выбросов. Там же исходили из этой ширины: что отсюда отрезали, то сюда приставили. То есть мусора не было. Столько работы было вложено в этот материал, что святотатством было что-то выкинуть. Платье износилось – из него, допустим, коврик сделали или куколку свернули дочке. Коврик износился, стоптался – его в огороде закопали, он сгнил, вот перегной тебе.
Хотя у нас в роду-то крестьян особо не было, но детстве я всё донашивала за сестрой. И сейчас какие-то вещи когда отдают, я к ним проще отношусь, чем к тем, что в магазине: там примеряешь, а тут надела и пошла. Я помню платье, которое мне лично купили. Розовое платье. Такое колючее! Оно было шерстяное, дорогое. Я его изредка надевала. Потом я из него выросла, и бабушка его надставляла, искала ткань, подбирала…
Ну, не знаю, почему, но мне это очень близко. И сейчас модная тема переработки мне близка. Я не очень этим занимаюсь, но могу. Из джинсов, например, у меня есть покрывало. С одной стороны, это я дочке шила на кровать, а с другой стороны – я собрала вещи именно семейные: мужа рубашки, папы, даже дедушки, бабушки – хотелось такое сделать. А потом, когда пошли американские всякие ткани, классные такие, японские, для пэчворка, мне это перестало быть интересным.
Это уже в 10-е годы, ближе к современности?
Да. Я где-то в 2009-м начала заниматься войлоком. С 1996 по 2010, 2009 я занималась лоскутным шитьём: мы ездили на фестивали, я участвовала в конкурсах. В Иваново на фестиваль мы ездили – привезла оттуда (просто руки оторвала!) тканей, покупали их по метру, по два, ходили там по всем магазинам!
Это уже вы были свободный художник или совмещали с основной работой?
Нет, я работала на мебельной фабрике, на ул. Льва Толстого. Я туда попала по блату. И сначала я там работала укладчицей в цехе, где сушат заготовки. Там своя ветка была, паровозом привозили вагоны с пиломатериалами. Я пришла зимой – и как вспомню, так вздрогну! Я там всё время болела. Привозили на погрузчике штабель, сверху шапка снега. Открывают ворота, чтобы погрузчик заехал, и на тележки металлические, как бы платформы, особым образом надо укладывать эти деревяшечки – сначала в одном направлении, потом в другом, чтобы между ними было расстояние положенное. На положенную высоту это всё укладывали, такая большая махина получалась, потом загонялась в печи сушильные. Там всё это сушилось, потом выгоняли тележку, и на другом конце всё снимали и потом в работу пускали эти детали деревянные. Я там, наверное, три месяца поработала. Потом декрет увеличили, по-моему, до полутора лет сначала, а потом до трёх лет, и я пошла декрет догуливать. И меня перевели в другой цех, я работала отделочницей, тоже недолго – меня позвали на место секретаря директора. Секретарь поехал учиться, и надо было месяц посидеть. Я там посидела, поработала секретарём, а потом меня взяли в отдел сбыта, дали ставку. Это без моих всяких просьб. Я там долго поработала, потом ушла в декрет. После декрета меня в ОТК перевели. Ну, интересно было работать.
Но параллельно вы занимались творчеством?
Да. А там же шили на стулья, на скамейки – и отходы все выбрасывались. И мы из этих отходов прихваточки шили. Я, когда работала в ОТК, была в профсоюзе, и я всем женщинам в цехе нашила этих прихваток в подарок. Потом на Новый год я подков из солёного теста наделала…
Большой был коллектив?
Ну да. Цех – человек 40, может быть.
«Надо было солёное, а она сделала слоёное»
Так вот, когда я в «Колокольчик» ходила, мы там занимались солёным тестом в основном. Я раздала всем рецепты, как сделать солёное тесто, чтобы все пришли и лепили из своего теста. На всякий случай я взяла с собой – вдруг кто забудет. Приходим, и говорят: я не взяла, я забыла, у меня нету… А один мальчик говорит: «А у меня много, я со всеми поделюсь!» Всем раздали, и стёкла я раздала – мы лепили окошко и на окне кошку. А потом туда можно было подложить картинку – из журнала, например, вырезать, вид из окна – и как будто сидит кошка на окошке и смотрит в город. Такая у меня придумка была, я образец сделала. Вот мы лепим – и тесто всё расползается, расползается… Я говорю: «Слушай, а что за тесто у тебя?» Он говорит: «Я не знаю. Я бабушке сказал сделать». А она сделала слоёное тесто! Надо было солёное, а она сделала слоёное. Вот такая история была.
У меня как раз была выставка в доме на посаде, и мы всем коллективом ходили, с этими детьми. У меня фотографии есть.
Что вы выставляли?
Как я туда попала, во-первых?! Приехали тётя с дядей из Ленинграда и зашли – там была выставка кукол. Тётя говорит: «А вы тут кого показываете? А вот у нас Аня, она рукодельница, у неё лоскутное шитьё!» Оставила телефон, они мне позвонили, говорят: давайте выставку. Поскольку два зала я не осилила, я пригласила Лору Александровну Ежову, она тоже лоскутным шитьём занималась, преподавала в Доме пионеров лоскутное шитьё. У меня был большой зал, а у неё маленький. Я всё, что у меня было из лоскутного шитья, принесла. И солёное тесто, в том числе коллективную работу с этими детьми. И ещё работа такая была – на заказ я делала герб России: институт один обратился в Школу ремёсел, а они мне передали. Тогда, по-моему, даже компьютеров особо не было, мне какую-то распечатку дали. Вот такой герб я делала: то, что крупное, – я аппликации делала из золотой ткани, а Георгия Победоносца я вышивала. Я забыла сказать, что ходила на курсы машинной вышивки – и вот на этой машинке, которая у меня, кабинетная, я и вышивала. И народ, когда приходил, не понимал, что тут герб-то делает!
Потом у меня ещё были курсы машинного вязания. Мне, особенно когда прямое полотно вяжешь, было скучно. Я думаю: вот бы на машинке-то – раз! – и связала. И была у меня такая мечта – машинка вязальная, но тогда было время дефицита… Я узнала, что во Дворце культуры им. Ленина есть курс машинного вязания. Я туда пришла и говорю: «А вы машинки даёте?» Он говорит: «Нет, машинки ваши, мы вас только обучаем». И как-то так сложилось, что на завод фурнитуры, где у меня работал свёкор (тогда по бартеру всё было), привезли машинки вязальные, «Каскад» – какой-то завод в Сибири военный, кажется, по конверсии стал делать вязальные машинки. Отечественные машинки были к тому времени – «Нева» и «Северянка». А этот «Каскад» они сами разработали, и детали к ним только они делали. То есть, когда у меня какая-то деталь сломалась, я не могла чем-то другим заменить – я туда писала, мне присылали с этого завода… Я, кстати, очень много вязала: варежки, носки, платья – дети у меня все были обвязаны! И штаны, и свитеры… А потом у меня сломался счётчик рядов, который я не смогла заменить, – и всё закончилось. И началось лоскутное шитьё.
«Это был незабываемый день!»
Может быть, о каких-то ещё этапах вашей творческой биографии расскажете?
У меня был войлок с 2009 года, тоже серьёзное увлечение.
Но это всё в разряде увлечений или давало и заказы?
Это я уже продавала. Я стала ездить на выставки, на «Ладью» – это выставка в Москве. Войлоком тогда только начинали заниматься, это сейчас много всего, а тогда ни мастер-классов не было, ни магазинов с шерстью – всё было очень сложно. И сообщество образовалось: где-то покупали, обменивались информацией.
Сообщество в Коломне?
Нет, не в Коломне, вообще. «Ярмарка мастеров» есть, сайт, – вот там все тусовались. Совместные выставки делали. Интернет-магазин «Шкатулочка» – он изначально чем-то другим занимался, а когда войлок начался, хозяйка это дело подхватила, сделала магазин, где сами же и продавали, платили совместную аренду на ВДНХ. То есть мастера совместно приехали, всё оформили, оборудование купили вместе и по очереди работали там.
Конкурсы были. Я придумала кототапки – тапки как морда кота. И у меня это пошло. В этом конкурсе я победила, и мне дали в приз шерсть кавказскую. И на следующий год, когда был этот конкурс, «Шерстеваль» назывался, я сделала сумку-кота. Тоже она победила где-то. В общем, у меня большой период был этого войлока. И до сих пор, когда что-то видишь, хочется это сделать! Но времени не хватает. Валяю яблочки!..
А потом я стала экопринтом заниматься. Кстати, с листьями у меня были ещё раньше работы – я делала открытки с листьями, когда занималась лоскутным шитьём. Я придумала такие открытки: я туда листья зашивала, по листьям вышивала – писала «Коломна» или какие-то веточки вышивала. Такой мастер-класс делала, в журнале «Чудесные мгновения. Лоскутное шитьё» напечатала (там у меня несколько мастер-классов). Ещё когда я войлоком занималась, у меня была выставка в Центральном выставочном зале в Коломне (был такой зал в «Глобусе») совместная с девушкой, которая шьёт сумки из кожи.
Какие самые запоминающиеся события, связанные с вашим творчеством, можете выделить?
Выставок и показов столько много! А! Я же ещё платья из павловопосадских платков шила, и показы у меня начались с платьев этих. Сначала было страшно: как отреагируют люди, как пройдут модели… У нас в Коломне есть чудесная модельная студия «Очарование», мы с ними уже 6 лет дружим. Первый показ у нас был в усадьбе Лажечникова на Ночь музеев. Это был незабываемый день! Был целый концерт: кто-то танцует, кто-то поёт, Павел Авдеев, гармонист известный, в конкурсах участвовал, должен был на гармони играть… Это всё должно было быть на улице. Но погода была какая-то такая неустойчивая, и сказали, что если будет дождь, то во флигель переместимся. И вот начался концерт, пляски пошли, из Озёр, по-моему, ансамбль, и как грянула музыка – грянул дождь, просто ливанул сразу! Все побежали во флигель, все вымокли хорошо. Там стулья стоят, всё подготовлено. Аппаратуру принесли – аппаратура не работает. Залило! Плясать они не могут без музыки – расстроились, уехали. Павел Андреев сыграл на гармони свой номер. А нам как без музыки ходить-то? Вот Альбина, руководитель студии, с Павлом этим поговорила – и под живую музыку у нас был первый показ совместный! Настолько незабываемо! Получилось здорово!
Можно сказать, что в Коломне сейчас есть какое-то свое рукодельное сообщество? Вы в него входите?
В Музее бабьей доли встречаются, я иногда туда хожу, когда получается. Там человек 10 собирается. Чтобы сообщество было, мне кажется, такого нет. На Шёлковой фабрике пытались как-то собрать мастеров, тоже интересно получилось. Я тогда мастер-класс проводила по окрашиванию натуральному…
Активных мастеров, как вы думаете, в Коломне какое количество?
Мне кажется, есть мастера, которые в Коломне совсем не проявляются. Мы общаемся, обмениваемся информацией. Если поискать, то, может, и 20 человек таких наберётся.
В городе хватает площадок, где вы можете себя показывать, встречаться, общаться? Вообще есть время для этих встреч?
Я думаю, что для интересных встреч время всегда находится. На Шёлковой фабрике сейчас стали встречаться, здоровская была лаборатория «Из тряпья золото». И семинар «Наследие и местные сообщества» – я очень рада, что поучаствовала в нём. У меня проект интересно получился в технике цианотипии – «Бабушкины кружева» (опять же, я бабушку там вспомнила свою). Мне хочется, конечно, мастерскую, где я могла бы и проводить мастер-классы, и сама работать, потому что в квартирных условиях это всё сложно делать. И хотелось бы, конечно, какую-то галерею, где можно было это продавать.
Таких мест для продажи сейчас недостаточно в городе? «Лига» же продаёт ремесленников постоянно…
Продаёт, но как-то не очень… Моё там продавалось в прошлом году получше, когда там была моя выставка. А сейчас как-то… похуже продаётся.
Я иногда участвую в ярмарке уличной в Кремлёвском дворике. И мне всегда хочется делать сувениры, которые касаются Коломны. Например, я открытки делала с листьями, где писала «Коломна», открытки с окошками – я специально заказывала штампы, чтобы окошки делать, там тоже «Коломна» написано. Коломенские яблоки… Хочется, чтобы народ сюда приезжал и какую-то историю нашу увозил из Коломны…
Давайте посмотрим какие-то из ваших работ, что вы принесли, и фотографии.
Родившимся в Ленинграде давали такие медали – девочкам розовым, мальчикам голубые: выбито имя, год, число, месяц. Так что у меня есть медаль!
Ой, вот смешная фотография – я тут лысая была! Ещё была фотография, где я сижу лысая с подсолнухом и грызу семечки.
Это всё мама фотографии делала?
Да. Кстати, дед тоже фотографией занимался.
Вот это рубашка такая – ходила вся Коломна: китайские рубашки тёмно-синие и голубые, на них написано «Чикатумими».
А это профилакторий, тоже мама фотографировала, – мы были в профилактории здесь, на Ленина. Классно было! Такой месяц!..
Это моя подруга выходила замуж. Я ей тоже шила платье свадебное. Но это уже после школы. Хитрое такое платье было! Тогда модна была многоярусность, и нижний ярус надевался отдельно – поскольку мы девушки практичные, чтобы потом можно было надеть. И когда поехали кататься, стали шампанское открывать на улице, красное почему-то, и облили ей эту нижнюю юбку шампанским. Потом приехали, нижнюю юбку сняли, застирали, высушили – и поехали дальше.
Это у меня был проект такой – я участвовала в конкурсе «Шапо». В Гостином дворе был большой конкурс шляп. Я сделала туда коллекцию с безумными шляпами «Узловой момент».
Вот я наделала открыток и потом в такую композицию осеннюю со стихами Николая Рубцова:
Улетели листья с тополей –
Повторилась в мире неизбежность…
Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность!
Вот эти листья, эту технику я придумала сама. И мне говорили: «Они же осыплются! Что ты листья туда зашила? Это же не будет жить!» Но я, наверное, в 2009-м их делала – открытки живы! Я их много раздарила тогда, потом мастер-классы сделала. И мне потом присылали эти открытки, кто какие сделал – это так приятно! И до сих пор люди вспоминают. И я такой мастер-класс сделала в журнале «Чудесные мгновения» – надеюсь, кому-то пригодился.
А вот эта работа называется «Морские сны». Причём сначала придумалось название. Я была с детьми в Евпатории, проходили лечение под музыку. Я потом попросила, мне записали музыку, она называется «Морские сны»: там крики чаек… И потом я сделала такую работу из маленьких-маленьких кусочков. Где-то она у меня победила, в каком-то конкурсе. Это, кстати, тоже отходы швейного производства.
Ничего не выбрасываем! И из молний можно сделать прихватку или под горячее подставку, коврики. Я работала в мастерской по ремонту одежды, там же много этих молний, всё выбрасывается – а я сделала коврик, и он долгое время лежал в этой мастерской.
Это у меня были юбки по мотивам русской понёвы…
Вот интересное покрывало, даже не покрывало, а полотно. У нас есть художник Смирнов, он говорит: «Сделайте мне лоскутное полотно, чтобы я на его фоне мог рисовать». Вот я ему такую сшила штуку. И потом смотрю – в «Лиге» его работа. Я даже нашла кусочек, который он перенёс в живопись!..
Спасибо большое за беседу, Анна!