Уважаемые гости!



Дата открытия Арткоммуналки – 1 декабря – выбрана не случайно. В этот день, 1 декабря 1962 года – в то самое время, когда будущий писатель Венедикт Ерофеев учился в Коломенском пединституте, – состоялся известный визит Никиты Хрущёва на выставку художников-авангардистов в Манеже, которая называлась «Новая реальность». На выставке генеральный секретарь растоптал новую реальность современного искусства – как раз за то, что оно посмело быть другим.
Арткоммуналка – необычный музей. Как и положено всякой коммуналке, она объединяет многих жильцов. Сменяя друг друга, здесь живут, работают, выставляют свои новые произведения, создают арт-объекты и выставки, театральные и литературные проекты художники и писатели со всего мира.
Вот и день рождения музея 1 декабря мы встретим с нынешним резидентом Арткоммуналки – художницей из Санкт-Петербурга Ксенией Балдиной.
В 14:00 Ксения приглашает всех желающих на мастер-класс для создания спонтанного перформанса «Голос места».

Вещи, живущие в Арткоммуналке, превратятся на этот час в музыкальные инструменты. Каждый, кто решится прийти в это время, сможет попробовать себя в роли музыканта. Мастер-класс закончится коллективным перформансом, к которому смогут присоединиться все гости музея.
Количество мест ограничено. Для участия просим зарегистрироваться https://muzey-rezidentsiya-artkom.timepad.ru/event/3138943/
Количество слушателей не ограничено/ограничено пространством музея.
А в 17:00 пройдёт «Открытый урок».

Ксения Балдина, дежурная в этот день по Арткоммуналке, утверждает: «Тут всё будет иначе». Умудрённые жизненным опытом жители Коломны поделятся личными историями с теми, кому небезразлична связь времён. «Уроки» старшего поколения – не пугайтесь! – будут ненавязчивы. Герои проекта разделят с гостями Арткоммуналки самое сокровенное – музыку, танец, приготовление пищи. Возрастной ценз (учиться никогда не поздно!) отсутствует. Трепетное отношение – приветствуется. Одевайтесь празднично!
Просим вас зарегистрироваться для участия в событии https://muzey-rezidentsiya-artkom.timepad.ru/event/3138945/
Двери Арткоммуналки открыты весь день. Проходя мимо «управдома» (администратора на ресепшене), обязательно воспользуйтесь нашей творческой копилкой пожеланий – в ней собраны тексты-цитаты от арт- и литрезидентов, их ёмкие высказывания станут пожеланием, рекомендацией или ответом на внутренний вопрос.
Приглашаем отметить вместе 13-летие Арткоммуналки!
Ждём гостей с 10:00 до 20:00, вход – по музейным билетам.
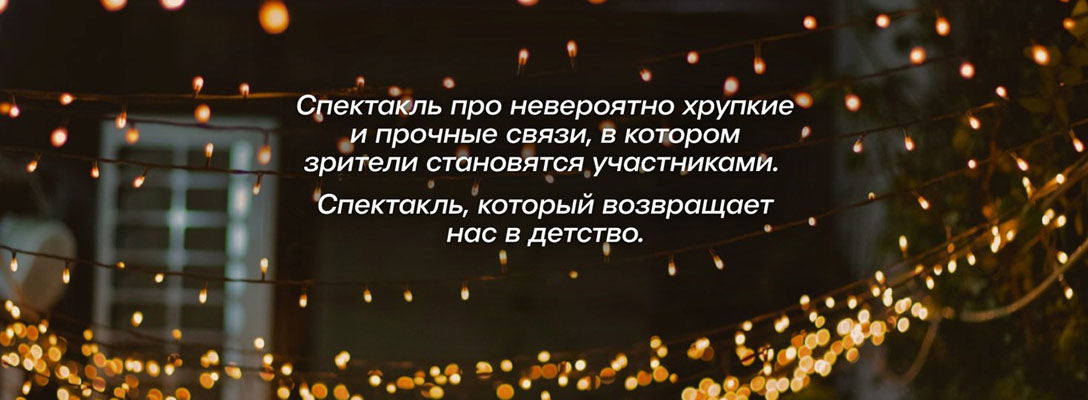
Чтение вслух — одна из важных семейных традиций, которые передаются из поколения в поколение. Все мы ждали любимую сказку на ночь, в свете ночника оживали чудовища и драконы, а принц неизбежно спасал свою принцессу.
В этот вечер мы открываем дверь в детскую для тех, кто устал от взрослых задач и хочет снова почувствовать себя беззаботно. Мы приглашаем вас провести тёплый вечер в окружении одеял и подушек и вернуть себе самые теплые моменты своего детства.
Спектакль рассчитан на аудиторию 18+
О резиденте:
Ксения Балдина. Художник-исследователь, поэт, режиссер. В сфере искусства Ксения работает над созданием различных событий —творческих прогулок, коллективных ритуалов, танцевальных и театральных перформансов, арт-медиаций.
В 2024 Ксения принимала участие в фестивалях «Слово и тело», Solar Systo Togathering, Ethnoscope, вела поэтическую прогулку «Требует слов» на Красненькой антибиеннале, создавала перформанс «Вдох» для паблик-арт проекта «Быть здесь».

Настоящее новогоднее веселье в исторической коммунальной квартире. Вы сможете примерить на себя роль жителя коммуналки, осознаете острую нехватку квадратных метров и примете участие в подготовке к празднованию Нового года… в борьбе за расширение жилплощади.
Жаркие споры, задания от управдома по изготовлению ёлочных украшений, новогодние песни и заслуженные подарки!
Ждём вас в Арткоммуналке!
Адрес: Коломна, ул. Октябрьской Революции, 205.
Сайт: artkommunalka.com
Возраст: 10+
Даты: 2—26 декабря, ежедневно по будням, по предварительной записи.
Длительность: 2 часа.
Начало: 18:00.
Стоимость: 800 руб., детский билет, 900 руб., взрослый билет
+7 (495) 228-11-10, +7 958 558 51 58 (Телеграм, с 10:00 до 20:00).
Рассказчик: Аркадий Сергеевич Арзуманов.
Собеседник: Екатерина Ойнас.
Дата интервью: 19 октября 2023 года.
Дата публикации: 06 ноября 2024 года.
Часть записанного разговора.
«Посильный физический труд ― это было самое главное в воспитании ребёнка!»
Три варианта конфет: первый ― «Раковые шейки», второй ― «Гусиные лапки» и третий ― «Москвичка» (она очень похожа на эту конфету: тоже карамель, только в шоколаде).
Сейчас она сохранилась?
Сохранилась! Я такие конфеты покупаю, только в одном месте ― в «Лакомке». Я хожу раз в две недели и говорю: мне горсть «Раковых шеек», горсть «Гусиных лапок» и горсть «Москвичек». Это я не выдумал слово «горсть», так было. Не говорили: «Мне 100 грамм взвесьте», ― нет, по горстям.
И в крафтовый кулёк.
Полиэтилена же не было тогда, только бумага. Из дома носили сшитые мешочки сатиновые, ситцевые, бязевые ― я не знаю, какой материал. У каждой женщины была в сумочке, у мужчин была своя тара. Сухую туда. А селёдка, какие-то мокрые продукты ― конечно, это не бумага, понятно, клеёнка. Сумки у всех были из клеёнки сделанные, сумки разных размеров. Ходили за мясом, за рыбой в них ― всё было хорошо, всё было как надо, устои какие-то образовались.
Вот место, сейчас называется «Дикси». В 1960-м или 1959-м, не помню, может быть, в 1961-м, что вряд ли, открыли этот гастроном. Внутри архитектура: виноградные лозы, всякая красивая лепнина. Хотели сделать как Универмаг номер один Елисеевский в Москве, чтобы люди, которые там были, говорили: «О, у нас тоже что-то есть!» Всё это срубили, ничего этого нет… Этот гастроном, я бегал из Городищ (пригород Коломны – ред.), всё время тут всё покупал, чего в других магазинах не было. Вообще было мало магазинов в Коломне, пять-шесть магазинов, и этого хватало, потому что люди питались по-другому: картошка, капуста, огурцы, помидоры, мясо. Мясо какое? Кости копчёные. Вы кушали гороховый суп из копчёных костей? Из рёбер копчёных.
Да!
В этом магазине было изобилие такое, какого сейчас даже нет в магазинах. Вы скажете: как это? Так! В 1957―1960 годах можно было прийти и купить 40 сортов конфет, может быть, даже 50. Не было проблем выпустить конфеты, была проблема придумать название! В газете «Пионерская правда», которую мне выписывали родители, было написано: «Дети! Московская фабрика «Рот Фронт» придумала новый сорт конфет: снаружи облиты шоколадом, имеются рёбрышки, внутри начинка, в неё добавлена кукурузная крупа. Кто придумает название, тому 5 килограмм конфет по адресу будет выслано». Не было проблемы придумать конфеты. «Мишка на севере», «Мишка на юге», «Василёк», «Любимый цветок»… Уже не знали, как назвать конфеты! К пионерам обращались, понимаете?! Этого вам никто не расскажет.
А я пацаном ходил в этот магазин, я знал все цены, любой вещи. Например, мясо: четыре витрины! Я могу показать, какая где располагалась ― я всё помню, я мальчишкой был, у меня память хорошая. Подходишь. Витрина. Сверху нарисовано, как рубить эту тушу: окорок, сычуг… Всё это было расписано, и не дай бог рубщик отрубит и положит не так ― берут рубщика другого. Потому что люди понимали, что этот кусок стоит рубль восемьдесят за килограмм, а это рубль двадцать. Каждая часть ― и говядина, и свинина, и баранина ― всё было разрублено, выложено, расположено.
Колбас 15 сортов было всегда: сухих колбас несколько, кровяных колбас, зельцев и варёных колбас. Вы даже не представляете! Вот, говорят: есть было нечего. Есть стало нечего потом, когда стали продавать всё, когда стали брать взятки, когда не стало сильной власти, тогда привели Россию к этому безобразию. А тогда было всё в порядке!
Вплоть до какого времени?
До 1962 года.
С икры снимали корочку
Расскажите эту легендарную историю о том, что, с ваших слов, продавали красную икру…
Через тот вход если зайти ― и прямо, там небольшое расстояние, всего три метра: там стоял прилавок два метра ― метр восемьдесят, и здесь открывается вход. На заднем плане вся стена была крабы, снатка называлась.
Роспись стен была или лепнина?
Нет! Коробочки стояли! Крабы! Сколько хочешь, никто не брал, они недорогие были, кстати. Сзади продавщицы стояло пять–шесть бочек селёдки, очень популярное было блюдо, все покупали селёдку. У кого денег не было ― хамсу или кильку. Селёдки были: 95 копеек за килограмм ― одна бочка 1,05 рубля ― другая, 1 рубль ― третья, 1,25 рубля ― четвёртая, 1,30 рубля ― пятая и 1,35 рубля ― самая дорогая селёдка, это шестая бочка. Эти бочки стояли, и она продавала из бочек. У каждого человека предпочтение: каспийская сельдь, дальневосточная… Мы покупали по 1,35 рубля, такая толстая спина, жирная ― одну, но хорошую.
На витрине стояли блюда эмалированные. Такой формы… здесь бортик большой, здесь бортик маленький, как бы наклон. Одно всё было заполнено икрой чёрной паюсной, другое ― чёрной зернистой, самой дорогой, третье ― красной икрой. Каждый вечер в конце дня, может, 2 дня она выстояла, сверху образовывается корка, высыхает. Я туда приходил рано утром. А кто на мальчика обращает внимание? Никто. Я стоял, ждал, пока коктейль начинают делать молочный (все ребята туда ходили за молочным коктейлем, 10 копеек стоил). Я наблюдал. Они выходят, им надо готовить это, они тонкую корочку снимают и в ведро эмалированное бросают, в чистое, хорошее, они потом всё это съедят за чаем или домой несут, может, какое-то время деньги заплатят, она недорогая была. Эту икру, руки мазали подсолнечным маслом ― и так по икре раз! раз! раз! И она прямо вся начинает играть как будто, она блестит! И они берут этот шприц и пишут маслом: «Слава КПСС». На другом блюде тоже сливочным маслом ― на красном фоне белом. Продавщица умела это делать! Там какие-то стояли насадки кудрявенькие, и очень красиво было написано. Два дня простоит икра ― они опять снимают корочку.
Были те люди, кто покупал это?
Она, конечно, стоила дороже, чем любой другой продукт. Но не так дорого, как сейчас: 100 000 рублей стоит чёрная икра, 50 000. Таких цен не было! Людям было доступно более-менее: не хочешь купить водку себе, купишь икру. Если ты не пьёшь, купи икру, и тебе достаточно будет килограмм или 800 грамм икры купить и полакомить своих детей. Ажиотажа ― икра! икра! ― не было. Ажиотаж был селёдка: хорошую привезут по рубль тридцать пять ― «Взвесь мне две штучки, одну для соседки, одну мне, в разных упаковках». Вот такие разговоры были. Здесь вот левее ― этот зал было мясо, ещё какие-то продукты. С левой стороны стояла коктейльная. Здесь можно было купить три–четыре сорта зельца. Вы кушаете зельц?
Нет.
У нас сейчас никто не делает…
А что это?
Разный, кровяной… Это мясо такое, не колбаса, ближе к… не могу сказать…
Колбасы все… Вино! Вино! Мукузани, Гурджаани, Ркацители, Псоу… любые вины были! Я всё про гастроном рассказываю. Здесь можно было купить всё! И в конце самом рыба: нототения, бельдюга ― мы таких рыб сейчас даже не знаем. Нототения была самая дорогая рыба ― 3,60, как бутылка водки. Но это была рыба! Это свежая рыба. Бельдюга подешевле, а остальные рыбы вообще были дешёвые, копейки стоили.
Выпечка была какая-то?
Выпечка тогда не была модна. В этом магазине я выпечку не видел.
Вы туда ходили за коктейлем?
Я ходил туда. Мы жили в Городищах, бабушка говорила: «Аркаша, масла нету». Я: «Ба, ну я же недавно ходил!» ― «Ну, нет у меня подсолнечного масла, мне готовить надо». Деньги даст ― и 10 копеек на коктейль. Я бегу бегом! Десятого магазина ещё не было, поворачиваешь через мост, бежишь сюда, пробегаешь и покупаешь это всё. Цены я все знал наизусть. Даёшь 10 копеек, есть за что. Только придёшь, переоденешься, пойдёшь играть в футбол: «Аркаша, я забыла, надо ещё сходить». Порой три раза в день туда бегаешь, туда 10 минут, обратно 10 минут. Пацан я очень добрый был, повозмущаюсь немножко по-детски, а сам всё равно бегу.
«Пойти в магазин за мясом ― не было такого»
Где вы жили, Аркадий Сергеевич? Может быть, чуть-чуть о вашей семье?
В Городищах я жил. До этого жили на улице Ленина. Мы там дом построили, вынуждены были: ребёнок погиб, от тесноты ошпарился кипятком, мой брат младший, и отец решил строиться – и с 1959 года мы жили в Городищах. А с 1959 года жили на улице Ленина, напротив профилактория. Но этих домов не было никаких, это было пол: ни музыкальной школы, ни профилактория – ни одного дома. Только стояла 25-я школа и водокачка, они и сейчас стоят. Чистое поле, мы с ребятами соберём картошку, напечём картошку, жжём костры…
Я могу рассказать про улицу Ленина, которую никто не помнит. Вы, наверное, знаете, что даже те дома, которые сталинские там построены, ЦЛПБ, улица Суворова, дома строили такие хорошие, немцы строили дома, – всё равно были дворы, и стояли там сараи. На самом деле это были не сараи, а скотный двор, все держали скотину. Очень многие держали коров! Но их надо пасти – нанимали пастуха. Выгоняли утром корову бабушки, она шла в стадо, и по улице Ленина каждый день… Машин ж было мало, машин не было вообще: в 1957 году на Текстильмаше 5 грузовых машин, на ЗТС 10 грузовых машин, на Коломзаводе – 15, ну, и кое у кого после войны – привезли с собой иностранные машинки, они больше стояли, некогда было ездить. То есть по улице Ленина утром гоняли на Репинку коров пасти, вечером, в 3–4 часа, гоняли обратно, их уже эти бабки доили у себя в сараях.
Жили при этом бабки в квартирах?
Да, уже строили дома, жили в квартирах. Эти двухэтажные дома, вы же знаете, немцы построили – 100 домов в посёлке ЦЛПБ. Недавно только стали ломать сараи, лет 10 назад, они до сих пор стояли… Все держали скотину. Т. е. пойти в магазин и стоять в очереди за мясом ― не было такого: тёлка, бычок – выращивали, потом на мясокомбинат, мясо брали, кушали. Начали появляться холодильники. Когда холодильников не было, в сарае делали ледники: это в подвал завозили весной лёд, снег рыхлый крупчатый, покрывали сеном, соломой, чтобы медленно таяло всё лето, туда закапывали продукты. Курицу зарубят, поросёнка, барашка – часть продадут, часть себе, в ледниках хранили.
То, что люди держали скотину, уже даже будучи городскими людьми, с чем это было связано?
Это в 1960-х годах закончилось. Я рассказываю вам про послевоенное время. Я помню 1955 год. Я помню, как Сталин умер, мне было 4 года. Я помню, что я стоял на улице, тётя Паша Стрерихина выбежала из дома своего, моя бабушка была, и она начала кричать: «Умер, умер! Как теперь будем жить?!» Все повторяли только одно: «Как мы теперь жить будем?» Потому что, видимо, рядом с ним никого не было, лидера, чтобы на кого-то положиться, думали, что он и больше никто, он и есть советская власть. Как мы теперь будем жить? Все говорили об этом, и все плакали. Это был март месяц.
Кто-то ездил на похороны среди ваших близких?
Нет, я бы знал. Эта реальность была.
Навозная река
Эта улица Ленина. Я вам не сказал: она же не была асфальтированная. Её начали копать – как корыто делают, потом засыпают туда щебёнку, песок, а потом делают асфальт. Уже начали готовить это корыто. И вот коровы ходят, начинается дождь. Мужики, сверху которые идут (выше Фрунзе улицы, верхние – это же посёлок был Ленинский большой, громадный) на Коломзавод работать, утром – у каждого был рюкзак, там видны резиновые сапоги. Подходили к улице Ленина, она представляла из себя навозную реку ― такой слой дерьма. Такое стадо прошло туда и потом обратно – представляете, что это такое?! Тут везде были брёвнышки, лавочки, это было нормально, ящики. Они садились, снимали ботинки, надевали резиновые сапоги, переходили эту улочку, а эта улица Малышева, которая раньше называлась Тендерная, у неё на углу стояли колонка и тоже ящики. И вот они переходили, в колонке мыли сапоги, клади их снова в рюкзак, переодевались и шли снова на работу на Коломзавод. Это продолжалось всего года два, пока не запретили стадо гонять, пока они начали асфальтировать улицу, года два-три была навозная река. Этого никто не помнит, я кому ни рассказываю, все смотрят удивлённо, но это было!
Как Парк Мира был посажен, вы помните?
Он был посажен до моего рождения, в 1948 году, после войны. Говорят, что пострадал директор Пятов, или как-то фамилия… я не помню, директор. На него написали – время такое было нехорошее. Он же вокруг парка ограду сделал чугунную, дорогую. Чугун ― это стратегический материал. Стратегический! За это расстреливали. Поняли его, потому что он (так рассказывали мужики с Коломзавода) сказал одну фразу: когда потребуется, у нас заготовлено 150 тысяч тонн этого материала, не надо ниоткуда брать, сразу на переплавку и сразу оружие. Он нашёлся, что сказать! Ему предъявляли, почему он потратил чугун, кто разрешил? А это тысячи тонн, одна весит тонн пять, а их сколько там…
Нас гоняли, школьников, первый–второй класс, на борьбу с непарным шелкопрядом. Мы привязывали баночку из-под тушёнки, консервов, наливали туда немножко керосина. Деревья ещё были низкие, и этот непарный шелкопряд почему-то на нижних ветках.
На каких деревьях?
На любых. Они вредители. Нас гоняли, мы снимали непарный шелкопряд, в баночку запихивали. Школы – 2, 25, 24 – все классы выходили. Раньше так было! Потом разводили костёр преподаватели, мы эти банки выбрасывали, и они трещали, когда сгорали, лопались эти куколки и трещали, нам было интересно. Два раза я был на непарном шелкопряде. Это были 1957–1958 годы, май или сентябрь, эти месяцы, я не помню, какие месяцы, наверное, сентябрь.
Нас гоняли на посадку деревьев. Машина, загруженная деревьями, идёт, вторая машина с лопатами, и мы идём, класс пятый, шестой, восьмой. Нам даются лопаты, и нам бросаются эти хлыстики деревьев, мы выкапываем ямку – две лопаты, следующую ямку – две лопаты. Дети сажали деревья. Все эти насаждения, многие, может быть, сейчас уже погибли, это же было 69 лет назад, может быть, их уже нет деревьев, но мы сажали, вместо урока.
Вы же совсем маленькими были.
Это не важно! Дети раньше работали! Брали с собой детей на поля, все же сажали картошку для себя, никто не покупал её. Выделяли каждому поле – по 2–3 сотки, смотря, какая семья. И мы копали, дети совершали посильный физический труд ― это было самое главное в воспитании ребёнка! И это было правильно: тех бездельников, которых мы сейчас имеем, которые воспитаны на гаджетах, это же не люди, это даже не знаю, как назвать… Человек славен в труде. Тот человек, который трудится, – тот человек. Который не трудится, я не знаю, как назвать его.
У вас, у ребёнка, какие были обязанности по дому?
Совсем когда маленький, никаких обязанностей. Потом мне придумали обязанности. Когда мы стали строиться, это был 1957 год, 300 гвоздей даёт кривых отец (покупать гвозди ― деньги надо тратить, на всём экономили), и вот на рельсе я их прямил, все пальцы в крови. Работа! И попробуй пожалуйся – скажут: «Как же так? Мы все работаем, и ты привыкай, сегодня у тебя пальцы в крови, а на десятый день у тебя не будет». Уголь привезли, у нас не было газа: полное ведёрко не можешь, половину иди насыпь, возле котла чтобы была горка, чтобы можно было 10 дней топить. Моя такая была работа.
Мы жили уже в Городищах, воды нет: просто дом построен, никаких коммуникаций не было. А каждый день, чтобы жить, нужно флягу молочную, 40 литров, воды привезти. Кто возил? Я вожу. На тележке, полкилометра бассейка, бежишь туда, снимаешь с тележечки, ставишь под бассеечку, наливаешь 5 минут, потом закрываешь герметично, ставишь на тележку и домой. Это когда не стирают. А когда стирают, пять фляг должно быть – это 2,5 часа моего времени. Бабушка сказала: «Я завтра стираю». И я вожу, вожу, выливаю куда-то… Бассейка около Засолки. Засолка – это где сейчас построили новые дома, новый посёлок, по Малинскому шоссе едешь – и слева посёлок, несколько домов больших. Это на территории заготконторы Коломенской АПС простроено, райпотребсоюза. Там раньше солили капусту. Нас гоняли на засол капусты, мы чистили кочаны, мы бросали их в специальную машину, которая шинкует, и оттуда всё это дело в эту бочку диаметром 3 метра и глубиной 5 метров, в которой уже стоят две женщины в чистых резиновых сапогах, и туда это шинкуется, допустим, две шинковочные машины капусты и одна шинковочная машина моркови. Мы это всё моём, а они стоят, топчут её.
Сколько вам было лет?
Я уже учился, это был третий–четвёртый класс.
От школы?
Вся работа общественная была от школы.
Это после уроков?
Или после, или вместо уроков, или в выходные дни. Учитель решает. Ты не был предназначен самому себе, нельзя было сказать: а я не пойду! Тогда таких людей не было! Ты подчинён, ты находишься в классе, совсем другие отношения были, ни один мальчик не мог возмутиться, пожаловаться. Если он жалуется папе, то он тут же получает подзатыльник, ему говорят: ты не умеешь жить, иди и попроси прощения. «Я не виноват!» Ты допустил конфликт – ты виноват, и тебе же достаётся. Это было жестоко, но это было правильно, вырастали правильные ребята.
Какие у вас были отношения с друзьями?
Я с ними не учился, они в других школах учились, по месту жительства. Есть те, с которыми вместе учились, а есть те, с которыми не учились. Мы ходили в выходные дни на рыбалку, по грибы. Такие взаимоотношения.
«Что было дома из богатства? Самовар и машинка»
Я вам не сказал: мама и бабушкой стирали, когда нужно было привозить пять фляг воды. Потом надо было полоскать – корзину мы с бабушкой несли на Коломенку, это где-то километр. Несколько раз отдыхали с ней. Донесли – там стояли плоты, на которых бабы сидели, у каждой своё место. И вот полоскали бельё, выжимали. Это целое дело, когда постельное бельё надо было стирать раз в две недели! Зимой несколько комплектов, конечно, никто стирать не будет без воды, и на реку не пойдёшь, как-то обходились, накапливали, а потом уже… Стиральных машин не было, стирали в ванной, когда воду провели, или в какой-то ёмкости. Это была проблема! Всё было направлено на то, чтобы обеспечить быт: приготовить еду, постирать, погладить. Женщины занимались этим делом, и ни у кого не было протеста: «Вот, я должна!..» Ты замуж вышла, у тебя есть ребёнок, тебе даже никто не будет говорить, что ты должна ― ты сама это делаешь! Если ты это делаешь без удовольствия, зачем ты тогда замуж вышла? Девочку к этому готовили.
Мама же при этом работала?
Работали все, очень мало было семей, которые позволяли женщине не работать. Если только она больная, инвалид. У моих друзей у всех дома никого днём нет – и мамы, и папы, и бабушки даже ходили на работу, потому что нужно было зарабатывать деньги, кормить семью.
Поэтому даже на старших больше женщин в семье был быт?
Бабушки всё это делали. Она ушла на пенсию, и это не значит, что она отдыхает: она стирает бельё, она гладит, она готовит – придут же после работы, надо кормить! А пацаны обеспечивают: сходи в палатку около мясокомбината, купи самое дешёвое мясо, диафрагма называлось, 47 копеек килограмм, обрезь, ещё что-то, ножки, суставы – чтобы холодец делать. Что скажут, то ты несёшь в этих клеёнчатых сумках, чтобы не промокло.
У сумок, кстати, какие были ручки?
Тоже из клеёнки.
Они же изнашивались.
Изнашивались – выбрасывали. У каждого дома машинка. Таких домов не было, чтобы машинки швейной не было. Это пошло с войны: в войну каждая женщина шила кальсоны, исподнее для фронта. И ты не могла отказываться! Тебе привозили материал, определённое количество, и два часа в день моя бабушка строчила. Ей давали карточку – иначе ты помрёшь. Работали на фронт все.
Машинками обеспечивали тоже?
Что было дома из богатства? Самовар и машинка. Если машинки нет, ты бедный человек. В магазинах же ничего нет. А как ребёнка обшить? Как себя обшить? Это была первая необходимость! Машинка ― это даже не самовар. Был завод в Подольске, ещё заводы, которые массовым способом их выпускали, и люди, когда семья образовывались, покупали швейные машинки. Женщины и даже мужчины учились на них шить, благо это несложно.
Все мы были обшиты, дети все были. Не было ничего покупного! Жили мы на улице Ленина, вечером, зима или лето, стук в окно. «Кто там?» – «Ситец». – «Ой, заходите, заходите!» Ходили люди с чемоданами. Она зашла – ей сразу чай. Эта русскость: чай и две сушки. Кормить её никто не собирается, но она должна зайти и что-то положить в рот, это человек. Открывала чемодан и там: ситец чёрный с белыми горошками – штука… Знаете, что такое штука? Намотано… Она говорит: «Мне 5 метров», – она отмеряет. «Светленькую 3 метра». Каждая знала… По-моему, 60 сантиметров шириной эти ситцы всего-навсего. Думали, сколько надо, разговор, час она у тебя посидит дома – всё купишь, что надо. Соседка: «Ой, я тоже хочу!» Соседка тоже заходит, тоже покупает, или к ней идёт. Это тоже часть быта.
Откуда женщина возникла с чемоданом?
Я не знаю, наверное, эти заводы, которые выпускали, фабрики ткацкие, их много было, которые выпускали, давали на реализацию. Я не могу вам сейчас сказать.
Такая система сбыта была
А где продавать? У нас только был один магазин Ханзель вот здесь. Бабушка моя жила в Луховицах, она была девка 16–17 лет, очень грамотная, очень грамотная. В деревне праздник, надо же обшиваться – давайте Полинку пошлём. Пишут записки. «Марфа Петровна, 15 метров такого ситца, такого, такого…» Бабушка ездила из Луховиц. Добраться было тяжело, трамваев же не было, ничего не было, всё надо на телегах или пешком. Это сложно! Кто-то едет, берёт её с собой. Она приходит в этот магазин, подходит к продавцу и говорит: «Мне надо штуки, несколько штук куплю». Продавец не имеет права штуками, это может делать только директор магазина – Ханзель. Ханзель сидит, в нарукавниках, что-то пишет. Продавец говорит: «Алексей Семёнович, пришла оптовый покупатель». Он выходит: «Сударыня, здравствуйте, что хотите?» Она говорит: «Я из Аксёнова, мне поручили купить, вот записки». – «Давайте отбирать». Он сам ей выдаёт штуки. Она покупает много, килограмм 20, она такая лошадь была, сюда 10 килограмм, туда 10 килограмм – и идёт.
Это вы про бабушку?
Про бабушку рассказываю. Он снимает косынку, хорошую, дорогую, и повязывает ей! Всё, что она купила, – он берёт большой платок, кладёт и платок в качестве тары ей даёт, за то, что она берёт у него оптом, 20–15 кусков она взяла разные. Вот как торговали люди! Алексей Семёнович Ханзель так торговал, лично сам.
Почему нельзя было, чтобы продавщица отпустила ей оптовой?
Одно дело людям некогда было ходить в магазин. А тут как хорошо – придут, продадут, это здорово. Наверное, немножко подороже продавал, это нормально. Был НЭП когда-то, видимо, отголоски НЭПа.
После Городищ где вы жили?
Я женился, сразу двое детей через год, институт окончил. Я же вечерний оканчивал. Политехнический, отделение ДВС ― двигатель внутреннего сгорания. Яи работал на Коломзаводе на испытаниях изделий. Двое детей – надо жильё. То у родителей поживём, то у тёщи поживём. Жена раньше меня окончила музыкальное училище и работала уже во дворце культуры химкомбината, ездила два раза в неделю. Она очень хорошо работала, грамотный специалист, такая жена у меня была талантливая женщина. Её там заметили. Она сказала: «Нам бы квартиру». Когда она окончила, ей выдали документ (распределение же раньше было) и написали: «Нуждается в жилплощади». Это попало директору химкомбината Докторову. Он сказал: «Дать. Двое детей – дать двухкомнатную». И нам дали двухкомнатную квартиру, мы переехали в Воскресенск.
Это какие годы?
Это 1972–1973 годы. Мы там долго жили, 20 лет. Потом я построил дом себе, потому что сын женился – ребёнок, дочь замуж вышла – ребёнок. Трёхкомнатная квартира… Если бы мы это не сделали, они бы не сохранили семьи, и я вынужден был уйти из семьи, к тёще, здесь строить дом. Жена приезжала помогала. Потом трёхкомнатную разменяли на две однокомнатные, и каждой семье досталось по однокомнатной квартире, семьи сохранились. Я вынужден был… я спал вместе с собакой в одной комнате, работал очень много, фактически дом построил сам.
Про 1960-е вспомните какие-то истории, связанные со Старым городом, со станцией Коломна? Где сейчас Мемориальный парк, помните ли вы, когда он был кладбищем?
Мемориального парка не было, было кладбище, там похоронен мой дед, бабушкин муж. Мы ходили, оно было в ужасном состоянии, за ним никто не смотрел. Уже было открыто новое кладбище, всех хоронили на новом кладбище, после войны никто на этом кладбище не хоронил, всё это зарастало, всё это безобразие было. Ходило, может быть, человек 50–100 ухаживали, удручающе было… А тут 800-летие Коломны, к 1977 году решили сделать Мемориальный парк. Конечно, при такой ситуации обязательно писали, возмущались, какое-то количество людей, но нужно было просто пережить… Я не знаю, как к этому относиться, но я думаю, что сделали правильно – это уже стало центром города, раньше-то это была окраина…
Патриотизм послевоенный ничем не описать
Про демонстрации. Демонстрации 1960–1970-х годов. На них никто людей не звал, никто не обязывал. Люди считали это праздником и сами туда стремились. На работе, конечно, говорили, обязывали, понятно. Но в те годы, в конце 1950-х, мне кажется, даже не обязали, люди сами ходили, потому что были патриоты, после войны любили родину, любили семью. Этот патриотизм послевоенный – ничем описать его нельзя было. Человек ночью, мне кажется, мог бы в одних трусах, мужик, взять нож длинный и идти защищать родину и не думать о том, что будет завтра. Патриотизм был на высочайшем уровне! Я это чувствовал. Когда учился в школе, там преподаватели, мужики (столярное дело, слесарное дело) – они фронтовики все. Тогда не было не фронтовиков! С не фронтовиком никто вообще не разговаривал! Кто он такой вообще, что он сделал для родины?! Ну, если годами не вышел, тогда не виноват, а если по какой-то причине – это просто считались второстепенные люди.
Вот выходили на демонстрацию. В Коломне особая демонстрация была. Я жил в Воскресенске, был на демонстрации, в других городах: просто проходят люди мимо трибуны, что-то скажут и уходят домой. В Коломне все демонстранты видели всю демонстрацию сами, и начало, и конец. Они проходили мимо трибун, разворачивались и шли обратно. Они шли и всех видели! Здоровались, радовались, ликовали: «Петя, я тебя 5 лет не видел! Как твои дела?» – «Всё хорошо!» – «Давай как-нибудь встретимся!» Это всё надо было видеть, это всё красиво, это всё искреннее! Искренность в глазах. Сожаление о том, что не общаются по каким-то причинам…
Вы с кем ходили?
С родителями. Все ходили с родителями дети, детей одевали в самые лучшие одежды. Май всегда тёплый был. На 7 ноября иногда был мороз, одевали, тогда, конечно, некомфортно детям было. А на майские демонстрации, как правило, всегда было тепло.
Вы с семьёй из дома выходили и что вы в качестве атрибутов брали?
Выдавали всё. Стояли девушки, у них 50–100 флажков, шарики. Если тебе надо, если ты хочешь сам, ты подходишь – тебе дают шарик, и ты с шариком идёшь.
Бесплатно?
Понимаете, в те годы не было людей, ни одного человека, который был бы не членом профсоюза. Поступаешь на работу – сразу в профсоюз. Профсоюзные организации были такие мощные и такие богатые! А демонстрация на профсоюзе лежала, организаторами были профсоюзные организации. Это была мощная организация! Профсоюз не давал уволить человека: без подписи профсоюза, без решений профорганизации, никто не имел права уволить человека. Наказать могли, а уволить – нет. Директор вызывал, приглашал на совещание: «Он сделал это, это, это… он недостоин, надо увольнять, много раз прощали». А представитель профсоюзной организации говорит: «Хорошо, мы рассмотрим». В противовес директору! «На профсоюзном заседании рассмотрим и сообщим». Собираются: «Возьмём поруки, я его знаю. Поддаёт? А кто сейчас не поддаёт? Давайте шанс ему дадим». И они пишут документ, что против профсоюзная организация, берёт на поруки.
Это 1980-е? Как будто бы вы уже участвовали в таких совещаниях, или это в пересказе?
Я такое категоричное не застал. Хотя я поступил на работу в 1966 году, застал: был такой Князев, его хотели выгнать, я не присутствовал сам, а в пересказах услышал, – они его отстояли. Но это были 1960-е годы, послевоенные, когда боролись за каждого человека. Мощная организация была, наверное, до 1980-х годов мощная. Сейчас люди выходят из профсоюзов, не хотят лишние деньги платить, взносы, обмельчали люди… Я до сих пор член профсоюза.
Каждый день пропадало по одной вилке…
Про наш 205-й дом воспоминания есть? Были здесь ваши знакомые?
Нет. Самая главная улица города, самая культурная улица города (тогда не было слова «стометровка», оно чуть попозже появилось, но будем говорить Стометровка) ― эта улица.
Октябрьской Революции?
Нет, Зайцева. Тысячи людей в день по этой улице ходили, выходили из трамвая и шли по этой улице в «Восток» или в «Юность» (кинотеатры – ред.). Это были главные очаги культуры. Кино ― это было главное. Что ему можно противопоставить? Ничего. Два зала, через каждые два часа в каждом зале разные фильмы. Ещё в «Юности», три зала. Это очень культурно. И просто так встречались люди. Пельменная была здесь, тир здесь стоял – на месте, где стоит спортмагазин, был тир хороший, я ходил, стрелял – 2 копейки один выстрел.
И здесь же ресторан «Коломна» был?
Ресторан «Коломна». В него ходили днём, в обед. Это был не ресторан, а просто люди с работы ходили покушать, комплексные какие-то обеды. Столовая. Рассказывали один случай такой, что в этом ресторане каждый день пропадали вилки, по одной вилке пропадало. Это такой смешной случай. Вначале не замечали, первые 10 дней, добавляли. Потом стали следить, подозрение пало на одного человека. Его потом обыскали ― никакой вилки нет. Второй раз его обыскали. А потом он сказал: «Вам надо хорошо убираться, мыть полы, мыть столы». Оказывается, каждый раз он вилку внутрь втыкал, и там 20–30 вилок было приколото к столу. Этим он показал, что негодные люди, надо скатерти снимать, столы, ножки мыть. Это не байка, это так было!
Здесь не было производств…
Текстильмаш здесь. Ходили, ходили люди. А почему заводы? Здесь много было всяких других мест, где люди работали. По-моему, этого человека звали Хоттабыч, прозвище было. Я работал на Текстильмаше, там был такой Саша Чудаков, он много разных вещей рассказывал, о происшествиях интересных, вот он напоминал Хоттабыча. У всех свои прозвища были, он был Хоттабыч. Он был очень такой весёлый, придумывал всякую фигню, на заводе всякую фигню придумывал…
На Текмаше вы кем работали?
Я работал слесарем. В 1965 году я начал работать учеником слесаря. Потом я учился в институте, днём работал, а вечером учился. Поскольку я учился, знаний было много, я очень быстро набирал, на Коломзаводе уже был слесарем пятого разряда, хорошо владел руками.
Чем особенна была работа на Текстильмаше?
Я работал в 16-м цехе учеником. Там выпускали узловязальные машины. Идёт основа с нитками, 500 ниток, она идёт, и ткут. Получается из этой основы продольные нитки делают поперечные, и получается ткань. Она кончается, 50–100 метров. Как связать каждую с каждой? Узловязальные машины. Они заправляются, становится машина, в ней 1000 деталей мелких, её включаешь, она электрическая, идёт и «ту-ту-ту» – связывает все ниточки, за 15 минут основу всю связывает. Сложнейшая техника! Меня взяли в бригаду, я самые элементарные какие-то крючки, закорючки делал, конечно, не доверяли ничего серьёзного, но какие-то я навыки получал. Линейкой по рукам получал, если что-то не так делал. Мастер Пшеничный меня линейкой по рукам бил. И попробуй скажи отцу (я уже взрослый был), что меня здесь бьют. Он скажет: «Правильно, наверное, надо было ещё и в другую руку разбить тебе, раз ты не умеешь работать».
Вы к этому нормально относились?
Нормально относился, как и все. А что, жаловаться? Он был старорежимный человек. Это был 1966 год, он работал до революции, ему было уже, наверное, лет 70, человек старый был. Этот мастер был настоящий, единственный, который мог наладить машинку. Это нужно очень большой опыт иметь! Он ходил и воспитывал слесарей так, как воспитывали до революции. Тогда побои в норме были.
До Великой Отечественной там был патефонный завод? Получается, что он осваивал каждый раз новое производство...
Он не патефонный был, патефоны – это было так, продукция. Текстильмаш был эвакуирован в начале войны. Директор эвакуационного завода, Смирнов Сергей Степанович, этот завод вывез в другое место, я сейчас не помню, какое. Потом уже патефонный стал. А основная продукция были огнемёты, они выпускались в войну.
А до войны?
Я не могу на такие вопросы отвечать, надо готовиться. Я до войны-то не жил.
Говорят, на Текстильмаше было много немцев, в 1950-е годы они оставались здесь…
По поводу немцев – это особый разговор и не для телефона. Я вам скажу, что они очень много сделали для России. Не фашисты, а немцы, и вся культура у нас немецкая должна была быть в то время. Это были культурные люди, образованные, они учили наших детей – музыке, учителями в школе когда-то, кто русскоязычный был немец. Они были выдержаны, это была элита, это были культурные люди, они были инженерами, они были конструкторами.
Вы в какой школе учились?
Я учился в 1-й школе.
Прямо с первого по десятый?
Нет, там десятилетки не было. Десятый класс я в 9 школе я учился.

Мастер-класс «Театр в музее» для тех, кто интересуется и живёт современным театром. Резидент Арткоммуналки, режиссёр и перформер Ксения Балдина приглашает подростков и молодёжь Коломны от 14 до 22 лет на мастер-класс. Мы поговорим о том, как современное искусство повлияло на развитие театра, что объединяет перформанс и блогерство, как артист существует в иммерсивном спектакле.
Итогом мастер-класса станет создание небольшого перформанса в духе сайт-специфик. Сайт-специфик — это театральный жанр, который подразумевает спектакли в публичном, не театральном пространстве — в галереях, музеях, промышленных объектах, скверах и других городских локациях.
У перформанса, созданного во время мастер-класса, возможно вдохновляющее продолжение, но об этом можно будет узнать только во время встречи!


Резиденция сентябрь 2024 г.
В резиденции в Коломне художник и мультипликатор Нина Бисярина работала над проектом авторского анимационного фильма «Моя бабушка – русалка». Это будет история о том, как воспоминание-фантазия об общем волшебном секрете помогает справиться со старением и уходом близкого человека.

«У меня были очень близкие отношения с моей бабушкой, она много времени уделяла мне в детстве. Для меня это был первый осознанный опыт встречи со старением. Мы мало об этом думаем, у нас культ молодости. Сейчас ещё часто семьи не живут вместе. И даже собственное старение для многих становится шоком», – делится Нина.

«Моя бабушка – русалка? – это выставка-игра, ставшая итогом арт-резиденции Нины Бисяриной.
Выставка представлена как авторская игра, сотканная из фрагментов, посвящённых важным воспоминаниям из детства художницы: от радостных мерцающих игр на берегу водоёма до таинственных исследований подводного мира и внутренней красоты близких людей. Вода здесь – не только течение времени, но и точное попадание в образы героев, спрятанных за покровом водного ландшафта памяти. Например, фотоснимок бабушки художницы за секунду до превращения в настоящую русалку, напечатанный на исчезающей кальке, как измерение утраты и одновременно попадания в Вечность.
Выставка идёт как пролог к анимационному фильму Нины Бисяриной, раскрывая историю, например, через бумажную куколку с накладным русалочьим хвостом, игрушечный аквариум и нарисованные фотографии, которые оживут в будущем мультфильме.

Для Нины детство – это период, когда всё новое и неочевидное требует внимательности и возможности всматриваться в детали. Эта чуткость и тонкость к окружающему миру отражается в работах художницы, её нежном отношении к личной истории, пространству узнавания и радости от встречи с родными.

Отсутствие своей комнаты у Нины в детстве привело к созданию игровых пространств, которые отражают поиск уединения и укрытия от внешнего мира. Девочка играла в уголках, созданных как отдельные игры – миры с длинными историями. Столь хрупкие и запоминающиеся мгновения из детских забав становятся основой для композиции выставки, где мир воспоминаний Нины разделяется на два пространства: фантазийные воспоминания взрослого человека и фантастические воспоминания ребёнка. В этих пространствах придуманного может быть больше, чем настоящего. Но в них сохранилось больше ощущений, запахов, звуков.

Работы оформлены в медитативной форме, как течение реки; с помощью звука, старинной мебели и вещей-воспоминаний рождается образ маленького острова. Детства. Здесь память – не просто про прошлое, а про то, какие мы сейчас. А Старость разворачивается как закономерный процесс, и даже смерть не искажена тяжестью внешнего мира. Всё, что происходит с нами здесь и сейчас, происходит внутри реальности художницы и её трепетного отношения к своему Детству. И не теряет ценности со временем. Здесь человеческая жизнь по-прежнему важна, а тепло отношений, ценность заботы и внимания вдохновляют и придают сил. Ведь именно знание о том, кто был до тебя, помогает понять самого себя.
Куратор резиденции Лена Скрипкина

Ксения Балдина – художник из Санкт-Петербурга, перформер, режиссёр и драматург, участница фестивалей и выставок современного искусства. Ксения представит свой проект – творческую лабораторию для людей старшего возраста.
В Коломне у Ксении много забот и не так много времени – чуть больше месяца. Она собирается знакомиться с Коломной весьма простым необычным способом. За чашкой чая возле окна или у плиты за готовкой. За измерением луж во время прогулок и созерцанием отражений.
Ксения приехала к нам из Петербурга, где стук капель по подоконнику – лейтмотив. Одно из её самых сильных детских впечатлений – прогулки с дедушкой под дождём.
О своём жизненном пути, экспериментах в области искусства и планах на ближайшее будущее она расскажет на вступительной встрече-знакомстве.
Ксения рассказывает о своём проекте: «Опираясь на опыт, которым поделятся участники, я предложу им различные форматы, в которых мы будем работать. Это может быть чтение сказок «на ночь«, вечера любимых историй, приготовление блюд по семейным рецептам, вышивание, вязание и так далее. То есть привычная участникам деятельность станет канвой проекта. Итогом будет серия событий и коллективный спектакль, где пришедшие гости снова смогут почувствовать себя детьми».
Приходите сами и приводите родителей, дедушек, бабушек. Вход свободный!
«Это воспоминания счастья: меня любят, я люблю»
Рассказчица: Елена Александровна Юшина.
Собеседница: Екатерина Ойнас.
Дата интервью: 16 июля 2024 года.
Дата публикации: 18 мая 2025 года.
Елена Александровна, расскажите о себе.
Я уроженка Коломны, коренная коломчанка.
Коренная коломенка или коломчанка?
Наверное, коломчанка. В старом журнале «Работница» был портрет коломчанки и одежды её – сарафан, головной убор красивый, – и написано было: «коломчанка», не «коломенка». Лодки были коломенки, поэтому человек коломчанка, наверное. У меня мама отсюда, а отец из Рязанской области.
Тогда давайте поговорим о родителях сначала.
Знаете, я хочу с чего начать: у Евтушенко есть очень хорошее четверостишье, как раз посвящённое коммунальным комнатам:
Люблю я эту комнату,
где даже дальний угол
никак мне не забыть,
где надо мало денег,
чтобы счастливым быть.
(Ред: Неточное цитирование стихотворения Б. Окуджавы «Эта комната», посвящённого К. Паустовскому:
Люблю я эту комнату,
где даже давний берег
так близок – не забыть…
Где нужно мало денег,
чтобы счастливым быть.)
Вы знаете, у всех разные воспоминания детства. У меня от детства и юности остались только счастливые воспоминания. Может быть, от того, что у меня семья была хорошая, потому что я родилась в семье, где я была одна, и мы жили – бабушка, мама и папа – в доме Лажечникова. Бабушка у меня была домоуправом, мама была бухгалтером домоуправления, отец был строителем. Жили мы материально и морально очень хорошо, поэтому детство у меня было интересное. Дом Лажечникова был коммунальный весь, поэтому у нас двор и все жители были воспитателями, они нас всех растили и наказывали, и про нас говорили, если что не так. Поэтому до сих пор те, кто остался из дома Лажечникова, кто жил долго, до сих пор созваниваются, как родные люди. Остались единицы, потому что сколько времени-то уже прошло, конечно…
А потом нас стали расселять. Поэтому воспоминания самые хорошие. Я ходила в детский садик, где автобусная станция, одноэтажное здание.
Сейчас сохранилось это здание?
Да, конечно – это бывшая гауптвахта.
Гауптвахта с колоннами? Это садик был?
Да, это бывший детский садик. Территория, которая сейчас обустроена, до улицы Лажечникова, – это была наша территория, садиковская.
То есть вдоль кремлёвской стены?
Да. У меня ещё фотографии есть с воспитателями, там так интересно… А потом я ходила в школу – сначала в восьмую, где сейчас краеведческий музей, а потом в третью школу, там я училась до восьмого класса. После восьмого класса я перешла в девятую школу. Девятая школа, где был директором Воронков Алексей Фёдорович, была одной из самых лучших, и там почему-то в это время были только 9-е и 10-е классы. То есть я оканчивала школу, когда был 10-й выпуск класса (я 10-й оканчивала) и 11-й выпуск – два выпуска сразу. Хотела в Москву поступать в институт – побоялась: народа-то много.
«Ребята постарше нас ставили к себе на мысочки – так мы переходили улицу»
Давайте вернёмся в ваше детство, самое раннее. Может быть, вспомните самые первые свои впечатления о доме, о семье, о характерах ваших членов семьи? Может быть, какие-то маленькие истории расскажете?
Самые ранние воспоминания… Знаете, это воспоминания счастья: меня любят, я люблю… и всё такое радостное было. Я не знаю, почему, но у меня одна только радость! Нас выпускали гулять во двор, мы гуляли всем двором, и так было весело, так было здорово!
Опишите обстановку двора. То есть это то, что перед домом?
Перед домом Лажечникова входишь – вот это был наш двор.
Из чего состоял этот двор? Может быть, у вас песочница была, качели?
Нет, у нас песочницы не было. У нас было два теннисных стола, и мы в пинг-понг играли с утра и до ночи. У нас все прекрасно играли! А ещё у всего дома, особенно у ребят, были велосипеды, и у меня тоже был велосипед «Ласточка». Мы очень любили на велосипедах кататься на улице Комсомольской – она же крутая. Вот мы ноги на раму поставим – и туда. Тогда ведь не было столько машин, было очень свободно, мы даже на велосипедах ездили в Щурово, на речку Чёрную купаться. Вот насколько было весело!
Ещё воспоминание – когда весна начиналась, начинал таять снег. Утром уйдёшь в школу без калош на валенках (потому что мы ещё тащили с собой и лыжи), а обратно-то идём уже в два часа! По лужам! У нас по Октябрьской улице ручьи! И вот ребята постарше из нашего дома нас ставили к себе на мысочки – и вот так мы переходили улицу. Такого движения не было.
Когда начинался на Москве-реке ледоход, мы слышали, как начинал трещать лёд. Такой раздавался треск! И мы все ледоход бежали на Москву-реку смотреть, как лёд идёт. А льдины идут прямо друг на друга! Некоторые ребята, смельчаки, с одной льдины на другую перепрыгивали – это вообще было шиком для них, они показывали себя.
А каждое лето мы ходили купаться на Москву-реку. Там, на той стороне, сейчас всё заросло, а был песок, назывался «дальние песочки». Мы проходили туда – там народу столько было! И на байдарках!.. И знакомились!.. Так было весело! Ну, а когда совсем были маленькими, мы ходили купаться на Коломенку, вдоль линии трамвайной. А обратно сядем в трамвай, двери были открыты – трамваи же были деревянные, – и напротив дома Лажечникова мы все начинали выскакивать! Не дожидаясь остановки.
На ходу?
Он тихо ехал. С нас и билеты тогда не брали. Тогда как-то люди были более добрые. А ещё у нас в доме, до сих пор помню, был такой Михаил – у него был сарай, и он привёз с войны, из Германии что ли, «студебеккер», машину. Она уже была изношенная, старая, так он её всю обил, а внутри обоями так сделал и лампочку повесил! Он всё время с этой машиной занимался. А жена его в нашем доме жила, работала в кассе, кассиром. А нам хотелось покататься-то! Он: «Ну, давайте, девки, – а говорил как-то на «о», – содитесь, я вас покотаю!» Вот соберёт нас, девчонок, в машину посадит и едет к мосту. А там под горку. Мы на машине спускаемся, а обратно в горку машина не идёт. Он говорит: «Ну, девки, а теперь отрабатывайте, везите меня!» И вот мы толкали эту машину, там ещё ребята присоединялись, и завозили во двор. Настолько было интересно!
Во дворе у нас стоял ещё стол, где играли в домино, где женщины собирались вечером посудачить, семечки погрызть, где в карты играли. Так было здорово! А за нашим домом Лажечникова был сад огромный: где сейчас два дома стоят кирпичных, там их не было, и забор был до самого трамвая – сад вот такой был. И у нас там стояли гигантские шаги, качели, представляете? Знаете, что это такое?
Расскажите.
Это столб (я до сих пор не могу понять, как к нему привязывали эти верёвки) такой огромный (как он крутился, не знаю) и в разные стороны были эти верёвки – гигантские шаги. Мы садились, раскручивались и катались. А ближе к забору, сюда, к нашему дому, где сараи за нашим домом были, там у наших родителей огородики были маленькие. В сараях многие, кто был потрудолюбивей, например, мои родители, Грачёвы, которые здесь жили, и свиней водили, и кур (пока налог не ввели – тогда всё прикрыли).
А что выращивали на огородиках?
Зелень для себя, немножечко картошечки, потому что люди трудолюбивые были.
В Водовозном переулке, говорят, помидоры выращивали.
Может быть. Мама работала потом в Запрудах, это здание бывшего сельхозтехникума, старое здание, и за этим техникумом им дали землю. Вот там мы выращивали огурцы, помидоры, а потом всё это прикрыли, там что-то начали строить, нам дали уже в другом месте огородики. А здесь нет, здесь лук, морковку, укроп, петрушечку – для стола, потому что маленькие огородики у каждого были.
А что в саду выращивали?
А там просто росли одни деревья. Это зона отдыха была. Там был стол, у меня даже фотография есть: стол, и мы все сидим, все ребята нашего двора, вот так по кругу. Мне мама ещё делала альбом: приходил фотограф, фотографировал нас с подружками. Одну подружку я нашла в этом году. Она на два года старше меня, жила с матерью в доме Лажечникова, а потом училась в Томилине, в техникуме, на продавца: в электричке повстречалась с молодым человеком, вышла замуж и уехала. А матери её, тёте Жене, дали потом квартиру на Мосэнерго. И всё, с этих пор я её больше… Нет, как-то она приезжала, потом так всё хорошо сложилось, мы сначала встречались, а потом нет. И вот сколько лет прошло – я случайно перебирала (у меня привычка такая: не выбрасываю ни бумажки, ничего: меня не будет – тогда на самосвал и всё выбросите) и нашла её телефон, ещё тот, старый. Думаю: дай-ка я попробую позвонить. Я дозвонилась до неё! Оказалось, что она жива, если мне 75, я ей, значит, 78.
А как зовут?
Надежда. Наумова её девичья фамилия, я сейчас не помню, как её фамилия. Муж у неё умер. Я её приглашала в дом Лажечникова, когда встреча была. Она говорит: «Да я уж такая, что я не могу…»
«Чёрные девки»
О соседях ещё расскажите. Кто был в вашей детской компании и среди взрослых, кого припоминаете?
Ой, среди взрослых! На первом этаже у нас была общая кухня, а потом шли комнаты: жили мы, потом было целое семейство Лебедевых. Один из последних Лебедевых (сейчас тоже никого не осталось) то ли в Норильске, где-то там далеко – он окончил наше КВАКУ (Коломенское высшее артиллерийское командное училище – ред.) и уехал туда. Приезжал сюда, мама здесь у него жила, Аня. И случайно он пришёл в 14-ю школу (икру они продавали) и увидел мою фамилию – Юшина. А я замуж вышла и осталась со своей фамилией. Он говорит: «Ой, Юшина! У Ширякиной бабы Клавы была дочка Юшина!» Он подошёл, разговорились, потом ко мне домой пришёл – всё разговаривали. Потом мама умерла, и он мне звонит и говорит: «Всё, я квартиру продал, больше я сюда уже не приеду». Это последний Лебедев.
А один был очень интересный Лебедев – он ездил на целину. У него семьи не было, где-то он сидел, такой деловой, хабальский такой, матершинник. До сих пор помню, что у него на ногах написано было, на одной: «Не спеши на работу». Сейчас все рисуют эти наколки, а я смотрю на людей-то – они не понимают, что делают. Потому что каждая наколка означает что-то, это целый рассказ. Вот у него было: «Не спеши на работу», «Спеши на обед», – на другой ноге было написано. А на спине, на лопатках, на одной стороне был Сталин, а на другой был Ленин: «Родился я при Ленине, а жил я при Сталине». Это уже не стиралось никогда. Как в тюрьме сидел – вот такие были наколки. Такой хохотун был!
Потом были Молодцовы или Алаевы. Их называли «чёрные девки».
Почему?
Они такие были маленькие, смуглые ужасно и чёрные. Дед Павел, он жил в другой стороне, у него там была жена. А он привёз из Питера ещё одну жену, они жили в этой стороне. «Санта-Барбара» прям, интересно! Все жили дружно, весело. Одни на одной стороне, другие на другой стороне. И он их привёз из Питера, когда стали вывозить оттуда во время войны, тётя Нюра была мать их, она была светленькая, а девчонки, Тамара и Лида, были в деда Павла – чёрные, смуглые, маленькие, худенькие. Они не работали никогда. Всё курили. Их мать сядет, начнёт про Питер: «Питерская я!» – нога на ногу. Но такие были доброжелательные! К ним придёшь – у них всегда чай, сушки и сахар. Сахар такой был – кусковой, большой, синий-синий. Щипчиками его наколют, возьмёшь этот маленький кусочек – это лучше, чем конфеты, было! Они окончили семь классов, обе девки. Тамарка нигде не училась. Я уроки когда делала, думала, как писать, какую запятую ставить, – к ней придёшь, скажешь: «Тамара, как здесь?» Она: «Вот так делай!» И точно! Она ни одного правила не знала, но орфография была… А почерк какой был! Прямо каллиграфический, красивый! У нас, когда кто чего писал, все к ней обращались.
Я сейчас про свою кухню рассказываю. Вот они были и мы: Ширякина бабушка у меня была, а мама по отцу стала Юшина. Ещё до того, как мы стали жить отдельно, с нами жил мамин брат родной, Ширякин Михаил Васильевич. Он возил дважды Героя Советского Союза Зайцева. Я помню, когда они к нам приходили в дом Лажечникова. Он с нами жил – с женой и с дочкой Татьяной. Она сейчас ещё жива, но у неё совершенно другой взгляд, она мне сказала: «У тебя счастливое было детство, а у меня было детство совсем другое». А когда у них вторая девочка родилась спустя 14 лет, бабушке моей дали квартиру в доме, где была булочная Морозова, и она отдала ордер им, они туда переехали; там были две комнаты хорошие и общая кухня. И мы тогда стали жить здесь одни, у нас было две комнаты, большая наша кухня. А ещё была общая кухня. Сначала отопление было печное, туалет был на улице, за домом, и вода была: вот кран, а под ним ведро стояло, и мы по очереди это ведро бегали выносить, уже потом сделали слив. Вода была только холодная.
В каком году сделали водопровод?
Наверное, в 1958-м. На керосинках, помню, готовили, потом уже газ провели. У нас газ был в нашей кухне, потому что у нас были поросята, и мы готовили на своей кухне им еду. А на общей кухне мы готовили просто себе обед. В кухне общего пользования полы были деревянные – не покрашенные, а такие прямо доски, и по очереди мы их мыли. А мыли-то не просто так: оковалок или железный скребок – и с песком или с кирпичом намывали, в конце недели.
Взрослые?
Почему? Вот я сама мыла. А потом покупали конфеты. Где сейчас улица Лажечникова, были частные домики, и вдоль Октябрьской были магазинчики – там продавались конфеты: круглые, «подушечки» – такие вкусные! Вот мы все на 10 копеек много-много купим и садимся, после того как полы помоем, и пьём чай. У нас дверь не закрывалась никогда! Я из школы прибегу – у меня все на работе. У Лебедевых щи стоят, ещё чего-нибудь. «Будешь есть?» – раз! – щей тебе нальют, картошку тебе положат. Вот Алаевы всё время чай пили, они не готовили ничего, не любили как-то. Но у них всегда был сырок обязательно, сушечки и сахар – вот это они любили. Ну, иногда картошку себе пожарят.
Это я про свою кухню. Потому что на первом этаже слева от нас жили Грачёвы, Павел Степанович, а жена у него была учительница начальных классов, у них было двое детей: Коля Грачёв, который потом будет директором треста столовых в Коломне, и его сестра Ольга. Только она сейчас жива, приходила к нам на встречу, а остальных никого нет. Тётя Стеша была, бабка Коли Грачёва, мать Павла Степановича, такая полная. Сядет на крыльце нашего дома Лажечникова, как только пробегаешь – она: «Так, это кто? – видела плохо. – Это кто идёт?» Потрогала: «Ага. Это Лена». Ой, все про всех всё знают! И знаете, мне что нравилось? Конечно, ссоры-то были, безусловно, но вот как жили взрослые: мне мама всё время говорила: «Дети касаться этих ссор не должны!» Сейчас как? Если родители поссорились – всё: дети ни «здрасьте» не скажут, ничего, и даже не подходят к детям этих родителей. У нас такого никогда не было. Это дело только взрослых людей! К тебе это не относится: как говорила «здрасьте», так и говоришь, попросит что-то принести или ещё что-то – надо делать. Всё.
А что было предметом ссор?
Разное. Знаете, когда люди на одной кухне, разные характеры… Сейчас говорят: у каждого должно быть своё пространство. А тогда не было ни у кого никакого своего пространства! Поэтому ссоры какие-то вспыхивали… слово за слово, кто-нибудь громче сказал, кто-нибудь что-нибудь вспомнил… Но это так всё быстро гасилось! Я вот даже не помню: у нас в семье-то ругались или не ругались? Потому что у нас так всё было мирно, никто ни на кого руку не поднимал, никто ни на кого не орал никогда. На кухне у нас иногда громко говорила Лебедева, она всё время затевала, она была самая взрослая, такая горластненькая просто. Она иногда скажет – вроде и не обидно, а кому-то покажется обидно. И вот из-за этого. А так-то не было.
Ну вот, а потом лестница, там второй этаж, там уже жили другие.
А с ними как вы общались, со вторым этажом, так же?
Да, это было всё единое!
«Внутри сугробов проделывали ходы, делали лаз, заливали его…»
Расскажите, как устроен был второй этаж.
Сейчас всё выглядит не так, абсолютно не так. У нас такая лестница была – широкая, большая! Два окна, которые сейчас, были такие широкие, и перед этим окном была площадка большая – мы там все, ребята, собирались, моего возраста кто, садились на подоконнике, демонстрации смотрели, потому что всё видно было, или какие-нибудь байки, сказки, истории страшные рассказывали.
Жили там, с правой стороны, Лапкины, брат и сестра, и у них семьи. Дальше жили Архангельские. С левой стороны был отдельный коридор, общие кухни, там жили Шкиперовы, там жила тётя Женя, и жили Сурины. А потом, когда выходишь из этой кухни (они ей пользовались), была комната у Тимофеевых. Два брата Тимофеевы, они ещё живы, я с ними тоже общаюсь. Тимофеев Володя – это краевед коломенский.
Зимой мне ещё очень что нравилось: большие ребята во дворе… снега-то было много – и они внутри сугробов проделывали ходы, туда делали лаз, заливали его, и мы на животе ж-ж-жих туда! – и сидели. Они свечку поставят и рассказывают страшные истории. Ой, как было интересно! Вот так мы жили, очень интересно.
Наверху тоже была кухня?
Да. С левой стороны, где жили Шкиперовы, Сурины, у Тимофеевых не было общего коридора, но кухней они пользовались общей. Большая кухня, у каждого там стоял свой столик. Я сейчас не помню, были у них керосинки, я только у себя помню керосинку, у них уже, помню, газ был. А у Шкиперовой, тёти Дуси, было четыре сына (она была моя крёстная), вот у них было три окна – комната большая: три окна с одной стороны на Госбанк выходили, а три окна выходили или два, я сейчас уж не помню, – на улицу Октябрьской Революции. Окна большие были, сейчас-то они какие-то поменьше. Потолки высокие были. И печка, которую они топили, – белый изразец! Печку натопят, встанешь к этим изразцам – так хорошо! У нас тоже была печка, на первом этаже, потом её сломали, потому что топили сначала дровами, наверное, а когда газ провели, у меня отец такой был мастеровой – он сделал маленькую печечку, и она газом отапливалась. Когда придёшь с катка, уже в возрасте подростка, сядешь на эту печку, сидишь, греешься, книжки читаешь. Интересно!
Была библиотека в вашей семье?
У нас мама очень любила читать. Я брала в библиотеке книги в школе, а она брала в библиотеке на Октябрьской улице.
В библиотеке Лажечникова?
Нет, это была обычная, простая библиотека – тогда не было библиотеки Лажечникова, это уже потом. Когда мы жили в доме Лажечникова, просто знали, что Лажечников писатель. Мы, конечно, гордились, что это был писатель, все старались прочитать его произведения. Ну, а так, чтобы это было громко… Ведь улица Лажечникова тоже названа позже, она была и Брусенская, и Почтовая, и Советская, а уж потом Лажечникова.
«Дрались за то, кто портфель учительницы потащит!»
Дорога в школу какая была интересная! Я до сих пор помню даже учителей, которые работали в школе. У меня была первая учительница Антонина Ивановна Шишова. Старенькая такая! А жила она где «Дом Озерова» (дом купца Озерова, сейчас культурный центр «Дом Озерова» – ред.), напротив, там сейчас снесли, а был двухэтажный дом, низ каменный, вверх деревянный – вот она жила на втором этаже с сыном, женой сына и внуком.
Там, где сейчас сквер?
Нет, с другой стороны, где магазин «Ткани» был, а сейчас там кафе. Вот там во дворе был такой длинный, барачного типа двухэтажный дом, там жила наша Антонина Ивановна. Мы утром бегали к ней, чтобы её портфель притащить в школу. Дрались за то, кто портфель потащит! Она старенькая уже была. Она учила моего дядьку, дядю Мишу, который возил Зайцева, Героя Советского Союза, вот насколько она была старенькая, Антонина Ивановна. Хорошая такая была учительница!
Она в третьей школе вас учила?
В восьмой. Где сейчас музей краеведческий. У меня даже фотографии есть: мы стоим, где колонны, из школы вышли. А потом я в третью школу пошла, она стала филиалом третьей школы. В третьей школе мы учились до восьмого класса. Хорошая школа. Ой, маленькая!.. Всё-таки зря, что идёт оптимизация, соединяют школы – этого делать никак нельзя! Потому что маленькая школа – это была семья. Мы знали всех учителей! Лет десять назад у меня была ученица в Городищах, я к ней за яйцами ездила, они кур выращивали. Как-то она говорит: «Знаешь, у меня яиц нет, а напротив у женщины есть, приезжай к ней». Я к ней приезжаю. Она открывает дверь. Я смотрю на неё. И она на меня смотрит. Я говорю: «Так вы учительница по математике из третьей школы! Знаете, как вас звали? Наполеонша!» Она такая строгая была. Она говорит: «Хм, сейчас я вспомню тебя. Я помню твоё лицо, ты у Рощупкиной Марьи Николаевны была». А она у нас была математик и классный руководитель. Вот надо же – как встретились! Всех учителей знали. Всех! И они нас, даже если они у нас не вели, всё равно знали. Это была школьная семья. Вот так было здорово!
Когда Антонина Ивановна уходила на пенсию, она из моего выпуска всех собрала. Мы ей купили подарок, стихи написали. Так торжественно было!
Сейчас перед школой уже всё разбито, а у нас даже был конкурс по классам, кто лучше сочинит сквер перед школой – мы все рисовали, делали, какие-то премии были…
Ещё я помню 1961-й год, когда в космос полетел Гагарин. Где-то урок. А у нас был Дорофейкин (сын его потом стал известным конькобежцем) – он двери открывает везде и кричит: «Человек в космосе!» – в каждую дверь. Какие уроки! Всё! Мы все вылетели на улицу. Здесь митинг! «Ура!» кричат! Это такая была радость для нас! Один был солнечный день в апреле. Так было хорошо, здорово.
А ещё когда в пионеры нас принимали – как же мы гордились галстуком! Это необыкновенно! Всю весну ходили расстёгнутыми, чтобы галстук было видно. А демонстрации какие здесь были, мы ходили! Мы так радовались этим демонстрациям! Делали веточки яблоневые, с цветочками, с ними ходили.
Когда праздники по вечерам были, мы уже взрослые, 17, 18 лет (я уехала в 20 лет из дома Лажечникова), на площади вот здесь было гулянье, танцы. На колокольне Иоанна Богослова вешали большой экран, показывали фильмы, новости.
Прямо на колокольню вешали экран?
Да. И потом дефиле по Октябрьской улице до Вечного огня (тогда его не было, там кладбище было Петропавловское). Туда по одной стороне и обратно. Надевали всё самое лучшее, знакомились… Ой, какая была красота! Тогда, может быть, не хотелось идти на демонстрацию – обязаловка… А сейчас, когда мы собираемся, говорим: какое же было счастье! Это нас так сплачивало всех, мы были все вместе, какой-то зависти не было. Мне почему нравилось время перестроечное, потому что перестройка всё расставила на свои места: кто стал кто. Ведь в советское время подлецом, гадом быть особенно было нельзя, надо было стараться быть хорошим. А когда перестройка началась – вот здесь всё изнутри попёрло: кто был настоящий, а кто мнимый советский человек, сразу стало видно. А тогда как-то все были приблизительно одинаковые. Жили небогато, но всё у всех было. Ходили в гости, угощали друг друга. И никакой зависти не было.
«Там так было всё строго, так красиво!»
Как менялась жизнь в 50-е, в 60-е, в 70-е? Она же всё равно менялась, хотя и оставалось это всё советским строем. Вы чувствовали какие-то изменения?
Вы знаете, менялась, наверное, в лучшую сторону. Потому что повышались зарплаты, побольше в магазине продуктов было. Тогда доставали как-то. Это уж потом, где-то к 1980 году, к концу 70-х дефицит начался, а так-то кое-что было. Вот этот гастроном, который назывался «Три поросёнка», – ведь там чего только не было! В витринах стояли эти поросята – розовые, всё время хотелось их потрогать, красивые! А в копытцах у них чашки, и в них икра – красная, чёрная! На праздники покупали. Тогда не покупали колбасу котёлками, на праздники брали немножко, но ты кусок её съешь – и ты наелся! Это сейчас можешь котёлку съесть – и ничего, а тогда нет, она была качественная. За качеством смотрели.
А здесь, где кинотеатр «Юность» был, напротив, всегда была женщина, которая торговала газировкой. Холодная! Или белая газировка, или с каким-нибудь сиропом. Вот смотрите: стаканчики эти мыли – нальют, помоют, ставят – и никто ничем не заражался. Никто их не тащил, не крал. Пили все из одного стакана. А рядом продавали пирожки. Какие были пирожки!..
Это прямо напротив входа в «Юность» или сквере уже?
Перед сквером, прямо около заборчика. Пироги были необыкновенные. Продавщица так ещё своеобразно говорила: «С мясом, с мясом». Мы её дразнили: «Пироги с мясом?» – «С мясом, с мясом!» Всё время раскупали эти пирожки. И в школе, в третьей, в восьмой, в буфете какие же были вкусные пироги! 10 копеек стоил пирожок. А мороженое здесь, когда праздники были, прямо в таких деревянных коробах возили – а там лёд, мы этот лёд очень любили, он так жёгся. И обязательно где-нибудь кто-нибудь забудет мороженое. Они уходили, а потом короба привозили. У нас свой был хладокомбинат, и там такое чудное мороженое было, фруктовое, за 7 копеек, с палочкой – одно объедение! Сейчас мы взрослые, может быть, вкус был бы совсем другой. Вот такие воспоминания, прямо чудное детство…
Про Госбанк что-то вспомните?
А как же! Такой чудный был! Он был такой красивый, ухоженный, там всё было подстрижено! У нас одна девочка из дома, который вдоль Октябрьской идёт, там жили Лукашёвы, когда окончила школу, её мама устроила в Госбанк, она разносчицей была. А тогда фильм вышел «Девушка из банка», кажется, американский (польский, режиссёр Януш Насфетер – ред.): когда она шпиона ловила, ей сделали операцию пластическую, и она как наживка была. И вот мы её так и звали – «девушка из банка». Ой, как мы туда боялись ходить! Там так было всё строго, так красиво! Сейчас посмотрю на эти руины…
Вы помните, как выглядели интерьеры, что под ногами было, на потолке, какие стены?
Вот это я сейчас не помню. Там кафель был.
Плитка, наверное, метлах.
Плитка, да-да-да, кафельная плитка была. И окошечки справа, слева полукруглые. Как-то всё было чётко, разграничено. А ведь сзади банка были квартиры, там жили люди.
Вы были там в гостях?
Да. Там Остапенко такие были, а Остапенко училась с Лукашёвой в одном классе. Мы все учились в разных классах – «А», «Б», но мы все друг друга знали. Вот я говорю: маленькая школа – это одна семья, это было здорово. И вот мы к ней приходили. Большие комнаты! Кухни-то были общие, а комнаты были большие. Окна такие широкие. А потом всех оттуда выселили, что там было, даже не знаю. Куколевы там жили, сейчас в Колычёве живут. Там много народа жило – в банке и здесь, где рядом красный дом. Мы многих знали.
А ещё в каких коммуналках в старой части города были?
Так все были коммуналки. Но я больше никуда в гости не ходила. Сюда мы ходили к Панечке.
«До сих пор для меня жулик – это лампочка»
Расскажите тогда, что помните про наш дом 205 на улице Октябрьской Революции.
Про ваш дом помню, что сюда мы ходили. Как её звали-то? Не Панечка, может быть, она так специально, потому что тогда налоги-то не платили за то, что она занималась индивидуально шитьём. А шила-то она очень хорошо.
Значит, вы сюда ходили к портнихе?
Да. Коночева тоже была портниха, тоже шила, но она как-то в меньшей степени шила. А вот моя…
Кикина Нюра. Вы её называли Паня?
Панечка, да, Паня. У неё были две дочери, одна, Варя, медработник – такая модница! Тогда во Дворце культуры завода им. Куйбышева была балетная студия, и она ходила туда. А у этой Панечки были журналы французские, «Бурда моден» – оттуда всё брали, и эта Варя маме говорила: «Ты мне сошьёшь, и пока я не поношу, больше никому не шить!» Так что я начну: «Мне вот это вот…» А она говорит: «Ой, Варька сейчас опять будет ругаться!» – «Да я в других кругах-то! Что она будет ругаться-то?» Нам нравились общее. Другая её дочка, которая училась на физмате, поскромнее была, она особо не увлекалась модами.
Паня из ничего могла сделать чего – такие были ручки у неё! Я помню, как начну в дверь стучать, а там проверять ходили, и до сих пор для меня жулик – это лампочка. Тогда не было люстр, лампочка висела, и вставляли какой-то «жулик». (Патрон-розетка; когда электросчётчики не были массовыми, платили за электроэнергию по количеству потребителей: за патрон для лампочки – 10 коп. в месяц, а за электрическую розетку – 50 коп., поэтому вместо розетки часто использовали патрон-жулик; по квартирам ходили инспекторы и за обнаруженные «жулики» штрафовали – ред.) И там уже стук был определённый. Ей постучат – она: «Ой, жулик вытаскивайте!» Я думаю: какой жулик? Моя сестра двоюродная жила со мной в доме Лажечникова, через стенку. Там печка была и проход от печки, и она: «Ой, Лен, ты здесь не ходи – там циркуль живёт!» Я не знала, что такое циркуль. А когда уж учиться в школу пошла, узнала, что это прибор измерительный. А она меня этим циркулем пугала. Так и жулик.
То есть именно в этой квартире пользовались «жуликами»?
Да. А я сразу хоп! – и под стол! Боялась! Она мне шила лет, наверное, с семи, маме шила и мне шила. Даже когда я переехала отсюда на ЗТС, я как-то пришла, когда замуж выходила, просила платье мне сшить, но не свадебное, а обычное, такой красивый материал у меня был. Она говорит: «Ой, Лен, я сошью, но глаза видят плохо, руки уже не те. Я уже больше не шью». А так она могла всё, что угодно, сшить!
Вы приходили со своим материалом или могли у неё заказать?
Нет, только со своим материалом.
А где его добывали?
На улице Зайцева был военный магазин.
Это до «Дома Озерова», в этом квартальчике?
Да, там сначала обувной был и вот этот военный магазин (нет, обувной был на этой улице, на Пьяной), и там продавали ткань, самую-самую разную ткань. Ткани было очень много! А ещё ткань продавалась в красном доме, на первом этаже.
В какие годы?
60–70-е. Там столько было тканей! Каких только не было! И кто умел шить, брали ткань, потому что в магазине всё было однотипное, не такое, какое хотелось бы, а импортного было не очень много – в 70-е годы надо было постоять в очереди.
Но не каждому же были доступны услуги портного?
Нет. Паня не всем шила, только своим знакомым. Потому что, если кто приходил, быстро все убиралось – нет-нет, ничего нет. А они с бабушкой были в хороших очень отношениях. И так у неё несколько клиентов было, они ей платили, как положено. Сначала мама шила у Коночевой. А Коночевы жили сначала на улице Яна Грунта. А потом им дали побольше квартиру вот здесь, они жили – её мама, она, её тётка.
«Такая ухоженная дамочка, а в этом халате – глаз не оторвёшь!»
Вы же через парадную заходили в эту квартиру? Вот расскажите, как шли…
Дверь, которая у вас забита, железная, на углу, – вот через эту дверь. Такая большая лестница – и ты входишь в коридор, а потом начинаются комнаты, чуть подальше прошла – там была кухня. На кухню я с Паней или Валей ходила посмотреть на Шилову, потому что она там кашеварила, и у неё такие были халаты!..
Это супруга Гурия Алексеевича Шилова?
Да, Гурия, художника. У них мастерская была на улице Лажечникова – первый дом, где была библиотека когда-то, там художники были. Я уж не знаю, какой он был художник, но он был очень красивый дядька. У него пальто такое светлое и длинное, шляпа такая!..
Он дома ходил так или по улице?
По улице. И белый шарф кипельный, несколько раз обмотанный вокруг шеи, и висел вот так!.. Для нас это тогда было!.. Когда мы в доме Лажечниковы встречались, я фотографии приносила, и Галина Матвеева увидела кепки: «О, – говорит, – какие у вас модные были ребята-то! Кепки-то у вас все модные!» Она, оказывается, изучала, какие были кепки.
Про супругу Шилова расскажите. Откуда могли быть эти халаты?
Я её знала, потому что с Юрой, с их сыном, он на год постарше меня, мы вместе ходили в детский садик. Они за ним приходили, мы знали всех родителей. И она всегда приходила – у неё очень красивые были платья. Не знаю, у кого она шила, но она из Германии (она же участвовала в Великой Отечественной войне – медработник) привезла очень много то ли тканей, то ли платьев красивых. А дома у неё были халаты! Мы-то в таких халатах не ходили.
Опишите, что это за халаты.
Лёгкая ткань, блестящая вся, такая воздушная, атласная. Я её видела в двух халатах. Один был чёрный, с красными цветами. Она такая была дородненькая, причёсочка всегда была – такая ухоженная дамочка, а в этом халате – глаз не оторвёшь! А потом я как-то ещё пришла, она была уже в другом халате: какие-то жёлтые то ли разводы, то ли цветы, и тоже ткань такая же гладкая, блестящая. Интересная была женщина, очень интересная. А Юрка потом окончил наш пединститут, литфак, и работал в редакции (газеты «Коломенская правда», был её редактором – ред.).
Кого ещё припомните в нашей коммунальной квартире?
Наверное, всё: Шиловы, Панечка и Равинская, я маму её помню, Коночеву.
Вы дружили?
Нет, они здесь жили, просто я её знала, потому что моя мама к ней ходила шить, я иногда с ней приходила. Она шила, когда жила на той улице, а когда здесь, мы уже ходили к Пане, потому что Паня была высшего класса (Коночева – это был уровень пониже, так будем говорить), она шила избранным. Может быть, она и Шиловой тоже шила, потому что у неё такие клиенты были все… Причём клиенты никогда не встречались, все ходили в разное время. Телефонов не было, а вот так постучишься, договоришься, стук был определённый, и она принимала всех отдельно. Поэтому я других клиентов никогда не видела. Ну, кроме детей – Вали и ещё одной, забыла, как зовут девчонку.
Тогда вы чувствовали, что эта коммуналка отличается от вашей? И чем? Или сейчас, спустя какое-то время, вы какие-то отличия можете назвать?
Здесь просто устройство было совсем другое. У нас как-то было по-другому немножко. И у нас в основном уровень жильцов был попроще, а здесь были… чуть завышенные: художники, портнихи, этот Пасман, который был преподавателем.
Адвокат.
Да, да, да. Такие вот люди здесь жили – уважаемые в Коломне, у нас были попроще.
Во двор этого дома был случай попасть? Тут же была арка…
Мы ходили только через этот парадный вход, все остальные пути продвижения к этому дому я не знаю.
«Модно было книги собирать»
Вы сказали, очень богатый был ассортимент в «Огоньке» в 60–70-е и описали поросят в витрине. А в самом магазине как всё было?
Входишь в магазин – там такие большие круглые витрины, закрытые.
Деревянные?
Они, наверное, пластиковые были. Нет, сама витрина была деревянная, а вот закрыта была пластиком.
Полусферические такие?
Да, полусферические. И всё было видно: баночки, колбасы, икра, сыр был разложен. Гастроном был у нас, мы чаще всего туда ходили.
А сюда по какому случаю заходили?
Там икры не было, а здесь была икра, здесь колбасы немножечко были другие. Там была, например, докторская, а здесь были полусухие колбасы.
Для вас тогда это было неактуально, но был же и винный отдел в «Огоньке», да?
Вот этого я не помню. Наверное, был. Про вино ничего не могу сказать, потому что я с этим не была связана.
Что ещё в этом доме было из магазинов?
Здесь люди жили. И был «Детский мир» на первом этаже, один магазин.
А что там продавали?
Там продавали детские игрушки, ёлочные игрушки. «Книжный мир», который сейчас, – это испокон веков был «Книжный мир».
Вы за книжками ходили сюда?
Да, конечно. Книжки достать было тоже очень сложно – по записи… и дороговато стоили. Не все книжки можно было купить: какие хотелось, их не было. У нас в книжном работала Кошелева, знакомая, и ей скажешь, какую нужную книжку… А где-то уже в 1964-1965 году, наверное, модно было книги собирать – не только читать, но и чтобы была библиотека. Вот мы ходили в «Книжный мир», макулатуру сдавали.
Когда в школе учились – сколько за макулатурой ходили по квартирам! Люди сдавали макулатуру, металлолом. Я ещё помню, к нам в дом Лажечникова приезжал на телеге мужик, кричал: «Тазы, корыта, вёдра чини-ить!» Отдавали ему кастрюли латать, корыто, ещё чего-то. Потом приходил тряпичник: у него были шарики, куколки, какие-то свистульки, а мы ему отдавали тряпки. Он из этих тряпок делал половички тканые а потом нам же приходил продавал эти половички. У нас такие все были половики, до сих пор, по-моему, в саду ещё они остались. Сейчас, правда, уже начали производство таких половиков, продают.
Ещё помню, ассенизаторы приезжали чистить туалеты. Помойка тоже была за домом, в доме Лажечникова. Здесь она тоже там же, наверное, была, потому что у меня бабушка была домуправом (поэтому она и знала Панечку), в этом доме. Мы думали про этих ассенизаторов: фу, дерьмо качают… Мне бабушка всё время говорила: «Вы не правы! Они моются каждый день и душатся “Красной Москвой”!»
Она смеялась, наверное?
Нет, они так следили за собой!
«Тогда всё было в цветах!»
Моего дядьки тётя оканчивала техникум сельскохозяйственный, и они ездили на машине, опрыскивали все парки – такая жидкость какая-то была и мыло жидкое, они это всё смешивали и опрыскивали все деревья.
От насекомых?
Да. Парк Зайцева, этот сквер… Знаете, какие были скверы? Какие здесь были цветы! Вы себе не представляете! Душистый табак, левкои, бархатцы, анютины глазки!.. Клумбы! Вот сейчас идёшь – одни каменные плитки, деревья, практически цветов никаких нет. А тогда всё было в цветах!
Цветочные часы же были, помните?
Да, да, да! А вот здесь, перед Лениным, какие же были цветы! Я помню, наши ребята с девушками дружили – вечером подойдут к клумбе – так частично хоп-хоп-хоп! – своим девушкам.
А ещё какие цветы были?
Других не помню. От душистого табака такой был аромат! Такие левкои были! Львиный зев ещё был. И в сквере Зайцева сколько было цветов! Там одни клумбы были с цветами!
Они по центру аллеи шли в сквере Зайцева, где сейчас центральная дорожка?
Да, прямо по центру – одни клумбы, клумбы, клумбы. Как было красиво!
А фонтан помните?
Да, конечно. Фонтан был красивый, действующий. И памятник уже поставили Зайцеву. И около памятника Зайцеву всегда свежие цветы были. Очень было здорово. А потом я работала в седьмой школе – это бывший пединститут, я там экзамены сдавала, а потом нас перевели на ул. Зелёную, а теперь это 14-я школа, их объединили. Я там работала четыре года и видела, как клумб становилось меньше, меньше, меньше…
Это в какие годы?
Это было в 1977–1979-м. В 1979-м я вторую дочку родила и перешла в 14-ю школу работать. Когда я институт окончила, у меня мама умерла, ей было 44 года, а меня направили в Икшинскую колонию (для несовершеннолетних – ред.). Ну, а куда? Бабушке 74 года, куда же её одну оставлять? И я поехала в Мособлоно, и мне дали направление: ищите место здесь. Я пришла в горком комсомола, и меня направили старшей вожатой в первый интернат, напротив музыкального училища.
Какой был интернат! Необыкновенный! 260 ребят. Столовая какая, прачечная какая, комнаты какие, порядок там какой был! Передо мной был Фролов, а когда я пришла, уже был Морозов директором – какой же там был порядок! Пять лет я там отработала, потом его закрыли: считали нецелесообразным два интерната, первый и второй. А потом второй закрыли.
У нас в интернате были хулиганистые дети, но в основном дети, у которых, например, один папа или одна мама. Были такие у нас – их пять человек было, мама умерла, отец один их растил. Конечно, трудно. Ещё был один, Евдокимов: мама умерла, у него трое ребят. Или, например, Коля Рычёв, у которого мама вышла замуж за другого, родила, а муж не принимает этого Колю – вот он здесь, в интернате. Вот такие дети. То есть у них были родители, их на выходной домой забирали. Или, например, у нас была Люба – её мама работала на поезде дальнего следования. С кем она останется? Бабушки не было. Вот она здесь, в интернате. Или из сёл дети: ездить далеко, они здесь были. Ну, там такой был порядок, так было здорово в этом интернате! Там музей какой чудный был!
Здание это осталось?
Ну, а что толку-то? Его когда закрыли, там начали делать с одной стороны горком комсомола, с другой стороны Дом пионеров. Представляете, там комнаты для каждого возраста, там ногомойки, там душевые, – это было здание, где кушали, где отдыхали, где спали. А школа была за музыкальным училищем, там станция юных техников сейчас, по-моему. Там до восьмого класса дети были, и там музей был.
Музей чего?
Музей дружбы был, это связано с другими республиками. Когда Мозжухин Виктор был директором Дома пионеров, он находился в сквере Хрущёва, где потом художники были. Хороший был, я туда ходила танцевать с первого класса.
Почему вы сказали «сквер Хрущеёва»?
Я не знаю, но его называли сквером Хрущёва. Там столько было кружков хороших! А юннатский был кружок необыкновенный! Там были грядки, они выращивали смородину, клубнику. Кружковцы устраивали праздник и нас всех угощали. Знаете, как было здорово?! Прямо чудо! Я до 10-го класса ходила в Дом пионеров. Там Бодрягин руководил кружком художественным, они рисовали, Радищев Андрей Павлович руководил литературным кружком и ещё вокальным – то есть там такие были преподаватели!
А вы что посещали до 10-го класса?
Танцевальный кружок Скопцовой Александры Павловны. Такая чудная женщина!
Возили вас потом по разным площадкам?
Нет, мы в основном здесь выступали. Потом я перешла уже во взрослый, во Дворец спорта, там уже дети оставались. Тоже по деревням ездили, особенно когда выборы были.
«Самые маленькие с семьями приходили танцевать»
А что припомните про ресторан «Коломна», который рядышком у нас здесь был?
Ходили в ресторан «Коломна», уже когда в институте мы учились и после института, пять лет. Но больше мы ходили в ресторан «Советский», который на площади, при гостинице, нам там нравилось больше. А здесь, мы считали, какой-то ширпотреб. А ещё нам очень нравилось, молодёжи, «Серая лошадь» – это где был Бобровский парк. Там был кинотеатр деревянный, который потом сломали, мы туда ходили фильм смотреть, а сзади был ресторанчик, «Серая лошадь» мы его называли, а потом стали называть его «Три тополя» – на Плющихе.
Почему называли «Серая лошадь»?
Не знаю. Там было очень много молодёжи. Если в «Советском» публика была степенная, оркестр вживую играл, то там молодёжь была, спортсмены, в основном конькобежцы. Ходили туда знакомиться. Там так было дёшево: мы на 1 рубль 47 коп. заказывали бутылку красного вина, лангет, кусок мяса с картошкой. Такие порции огромные! И сидели весь вечер, отдыхали.
Сколько вам было лет?
Я уже в институт поступила, в 1966-м, четыре года училась на истфаке – у нас тогда было четыре года почему-то, в 1970-м я окончила. То есть в студенческие годы и после, когда я работала старшей вожатой уже в интернате, мы туда ходили.
Там музыка была?
Да, живая, оркестры играли. Мы и танцевали, и сидели – долго, до 12 ночи. «Коломну» мы как-то не очень жаловали, забегаловкой считали. Народ здесь был более старый. Например, мы ходили на танцы, когда я была ещё в школе, начиная класса с восьмого, в Комсомольский сад. Какой же был сад! Необыкновенный! Там стояла сцена, играл оркестр, посередине был фонтан, а вокруг круг поменьше, круг побольше, круг совсем малыши. Самые маленькие с семьями приходили танцевать, они были около фонтанчика, потом постарше, постарше. И знакомились, и танцевали. А с правой стороны, как входишь, было каменное строение, там показывали фильмы. А нас в седьмом классе не пускали туда, так мы на семь часов, на шесть идём фильм смотреть. Фильм посмотрим – и остаёмся там потанцевать! А потом идём домой.
Припомните какие-то истории, связанные с этим Комсомольским садом?
Нет. Мне ещё мама рассказывала, что и она туда ходила, и там они ещё знакомились. Как-то у меня не осталось в памяти каких-то происшествий: потанцевали – уходили.
«Вы помогли мне стать человеком»
Давайте поговорим про то, как вы поступали в институт, почему именно на истфак, кто влиял на ваш выбор.
Я сама решила. У меня в семье не было учителей. Я после восьмого класса в девятую школу пошла, у нас был класс программистов, их было два класса, Е и Д.
Это какой год?
1964 год. И мы ходили на Коломзавод (у меня даже есть документ – я программист второго разряда), там такие были машины вычислительные – с полу до потолка. Программы составляли – как туалетная бумага, такие рулоны. Туда принимали только одних отличников, а у меня было три «четвёрки», но туда пошла моя подружка Лариса Кутузова: «Пойдём со мной! Пойдём со мной!» Мне так не хотелось… у меня математика на «четыре» всегда была… Ну, пошла. Меня взяли в этот класс, а там были одни отличники, такие умные! У нас был такой Лексин, который на доске начнёт выводить формулу. «А не, не так!» – раз, зачеркнёт. И он мог весь урок эти формулы выводить! Вот такие были умные ребята. У нас после окончания школы все, за исключением одного, поступили в вузы. А одному, потому что у него материальное положение было, что-то случилось в семье, пришлось идти работать, он заочно пошёл учиться.
Но главное, что из этого класса программистов мы двое поступили на истфак. Я – потому что любила очень историю. Какой же умный был Воронков Алексей Фёдорович! Я хотела перейти в другой класс, потому что я занималась в театральном кружке и ещё танцами и ничего не успевала. А в театральном кружке я занималась у Ильнаровых, во дворце завода Куйбышева, там были муж и жена Ильнаровы: Лариса Львовна детский вела, а он вёл взрослый. И мы каждый вечер ходили заниматься в театральный и танцами, мне некогда было. Я решила перейти, даже нашла девочку, Ларису Калкину, из другого класса, которая грезила математикой, она просто не знала, я ей говорю: «Давай, я пойду в твой класс, а ты сюда». И мы пошли с мамой к Воронкову. Пришли, мама говорит: вот, так и так. Он слушал, слушал, слушал и говорит: «Я, конечно, могу всё сделать, в любой класс тебя перевести. Но что я тебе хочу сказать? Вот ты сейчас дашь себе поблажку, потом всю жизнь ты будешь этой поблажкой пользоваться, ничего не достигнешь. Останешься в этом классе!» Я говорю: «Да я с девочкой, с Ларисой договорилась!..» – «А Ларису я возьму к вам в класс, хочешь?» Он взял её в класс, мы так и дружили. И вот этот урок мне запомнился на всю жизнь. Я так на него злилась! Потому что я себя заставляла: мне надо было всё успеть – и это, и это, и это, и это! Это как-то дисциплинировало. А потом я ему говорю, когда мы уже в школе музей создавали, он тогда приходил: «Спасибо вам, Алексей Фёдорович. Вы, по сути дела, помогли мне стать человеком. А иначе бы я не стала учителем с высшей квалификационной категорией и отличником просвещения. Нет, не стала бы».
И потом у меня такая же история получилась с моим учеником, Лобачёвым Максимом. Я у них была классная, самый первый мой выпуск. Парень от бога математик! А один был, с папой, мама родила его и через месяц умерла, папа не женился, так его и растил. И он на одни «пятёрки» учился. Историю, обществознание вообще терпеть не мог! Не учил и всё. Я говорила: «Максим, смотри: “тройки”, “четвёрки”. А ты ведь на “пять” идёшь. Ну что ты делаешь?!» – «Ну, ладно, вот будет экзамен, я сдам». Я говорю: «Да я верю, но так ведь нельзя!» И когда подошли к экзамену, приходит приказ: экзамены отменяются. И у него осталась «четвёрка». Сейчас всё что угодно можно сделать, а тогда мы были принципиальные. Это, наверное, 1987-й год был или 1989-й. И никакого он красного диплома не получил. Я ему говорю: «Максим, я себя корю, что я тебе испортила биографию. Надо было поставить тебе – и всё. А я…» Он говорит: «Да ладно, Елена Александровна, отец даже не пришёл на выпускной…» А потом он поступил в институт, с женой ко мне приходил. Я говорю: «Я всё переживаю за тебя». Он говорит: «Да ладно, не переживайте. Чего вы переживаете?» А потом он приходит в 16-ю школу, девочку привёл в первый класс. Огромный букет цветов! Меня встречает и говорит: «А вот это вам». Я говорю: «Максим, ты что, учительнице вашей надо!» «У неё есть, – он говорит. – Вы знаете, что я хочу сказать? Я вам благодарен за этот урок. Если бы не этот урок, то потом я бы не достиг того, что я сейчас достиг. Вы знаете, я достиг каких высот, и только благодаря этому: как только что не так – ага, а потом будет так же, как с обществознанием. Нет! Буду добиваться!» Так что тот урок, который мне преподал Воронков, я своим ученикам преподала, им помогло в жизни.
А почему я стала учителем? У нас в третьей школе преподавала Богоявленская! А её сестра, Колосова, преподавала в девятой школе историю. Но мне она не досталась. Мне досталась какая-то учительница, я даже не помню её! Она весь урок вот так сядет, такая уже старая, и бубнит. О, боже! Это ужасно! А вот Богоявленская так вела уроки! Мы даже не успевали рот открыть – урок заканчивался. Я настолько влюбилась в этот Древний мир и дальше, до восьмого класса, что хотела быть только историком. Вот такие были учителя в третьей школе. Я их так любила! И они к нам так относились… потом уже была педагогика сотрудничества. А вот она была – неофициальная педагогика сотрудничества. Мы так любили друг друга, о нас так заботились! Сейчас что-то учитель сделает не так – тут же в сеть выпускают против учителя негативные стрелы. А у нас тогда был такой Суматохин Вячеслав Иванович, войну прошёл, немецкий язык знал, переводчиком был. Только попивал. И вот иногда пьяный придёт, начнёт нам что-нибудь там по-немецки тыр-пыр – учителя его уводят (учителя все молчали – войну прошёл человек, а симпатичный такой дядька был), кладут в учительской, там кожаный диван был. Учительская у нас была прямо табу – все, тряслись, не могли войти. Сейчас ногой открывают дверь, заходят, что хотят, то и делают… Я потом его встретила в автобусе, вечером ехала от тётки, подошла к нему: «Вячеслав Иванович, вы меня помните?» Он так поднимает глаза на меня и говорит: «Да, Лена Юшина, помню». Я говорю: «Как вы?» А он говорит: «Да так, по-стариковски, одиноко». Язык знал великолепно!..
Вот такое было хорошее отношение. Когда я ушла уже в девятую школу (тогда было модно устраивать праздники между школами), я у своих учителей в третьей школе вела танцевальный кружок, они танцевали. И потом я с ними пришла в 10-ю школу, там был праздник, и мы заняли призовое место. У каждой школы свой столик, и нам там сухенькое вино не наливают. А я уже в институте на первом курсе училась, говорю: «Я вроде как с учителями». А мне отвечает Вячеслав Иванович: «Коллега уже будущая? По чуть-чуть давай за то, что ты нами руководила». Вот такое было отношение к учителям.
Я до сих пор иду по своей улице Макеевской и вижу одну женщину, ей уже 90 с лишним лет. Она каждый день с 11 часов с сумочкой с улицы Зелёной идёт до Кировского шоссе. Я несколько раз наблюдала, думаю: батюшки, да это Раиска-Крыска! Она у нас не вела, у нас была другая по географии. Но мы же всех знали учителей, которые в других классах, обязаны были с ними здороваться. Я думаю: дай я сейчас её остановлю. Останавливаю: «Здравствуйте!» Она остановилась (губки накрашены): «Здравствуйте, вы меня знаете?» Я говорю: «Конечно, знаю. Вы Раиса Михайловна, в третьей школе учительница?» Она: «Да-да-да, а вы?» Я говорю: «А я у Рощупкиной Марии Николаевны, Юшина». – «Да-да-да, надо же, вы меня узнали». А вы знаете, кого я узнала однажды, когда вела учеников на экскурсию в музей? У нас очень хорошая была преподаватель в институте, для неё музейная практика была на первом месте. И вот я ребятам в музее говорю: «Так, все выходим в эту дверь». И она говорит: «Я слышу голос Лены Юшиной. А вы уже ушли. Вот я тогда тебя там увидела, услышала, ты стала учительницей».
«Мне везло в жизни на прекрасных людей»
Расскажите, как вы поступали. У вас же, получается, профиль у класса был другой. Вам пришлось дополнительно заниматься?
Нет, ни с кем дополнительно не занимались. Учили всё, что надо было учить, сдавали экзамены сами. Тогда не было ни репетиторов, никого, поэтому пользовались школьной программой.
Как родители отнеслись к вашему выбору? Поддержали?
Они принимали то, что я хотела. Сначала я хотела быть артисткой, у меня неплохо получалось. А Ильнаров начал рассказывать о кухне артистической – и у меня сразу отпало желание быть артисткой: нет, это не моё. Он говорил: или надо семьи не иметь, посвятить себя всего, или надо быть детьми, у которых родители артисты, им проще, легче пробиваться, вы то ли пробьётесь, то ли нет, а быть в толпе – не получишь никакого удовлетворения. Он мне всё объяснил, и я не захотела. Когда я занималась во Дворце спорта танцами, у нас народные танцы были, а во Дворце им. Куйбышева мы занимались бальными танцами: ча-ча-ча, липси и всё остальное. И к нам туда приехал Омский народный хор, а у них и подтанцовка была. У нас была репетиция, подходит режиссёр и говорит мне и ещё одной девочке: «Я вам предлагаю к нам в хор, в танцевальную группу. Два месяца будете на стажировке». А та девочка училась в техникуме сельскохозяйственном, замуж выходила, она отказалась. А я училась на втором курсе в институте и говорю: «Нет, я только на втором курсе». А он: «Ну и что? У нас там есть тоже пединститут, можно заочно». – «Нет-нет-нет! Век танцовщицы короткий, я не пойду». И я не пошла. Так для себя потанцевала и всё.
Родители принимали то, что я хотела. Захотела на истфак – пошла на истфак.
Сложно было поступать в то время?
Конкурс у нас был 15 человек на место. Надо было получить 13 баллов за три экзамена. У меня было две «пятёрки» и «тройка». «Тройка» была за сочинение, я писала по Маяковскому и не то вставила, из другого произведения: писала про одно, вставила другое. А русский язык и история были на «пятёрки», и у меня как раз проходной был 13 баллов.
У вас уже тогда разделены были историки и филологи?
Да. Это уже лет семь было разделено. Вот Кузовкин учился тоже на истфаке, но у него был историко-литературный. Его жена стала заниматься, по-моему, историей, а он литературой. А у нас уже чётко были литфак и истфак.
У вас здесь началась учёба, а потом…
Экзамены там принимали, и мы месяца два проучились здесь. Мы экзамены сдали, и в сентябре нас в колхоз отправили. А потом уже из колхоза мы приехали и перетаскивали все наглядные пособия туда. И у нас на третьем этаже, в левой стороне, было своё крыло историческое, а литфак уже был на третьем этаже, а на втором были математики.
Что припомните из своих студенческих лет?
Мне везло в жизни на прекрасных людей, не знаю, почему. В драматическом, в танцевальном кружках меня окружали прекрасные люди. В институте у нас такой был коллектив! Что ни преподаватель – это корифей. Это такие умницы были: Ефремцев Григорий Петрович, Нагаев Алексей Степанович, такой педант, такой интеллигентный человек, такая умница, Рощина Наталья Александровна – сколько лет прошло, я их всех помню с такой благодарностью! Рощина у нас была куратором. Она нас куда только не возила, теребила, а уж сама была в возрасте! Мы все музеи в Москве облазили! Она приехала в музей Пушкина в Москве. Экскурсовод ведёт. Она: «Вот что рассказывает, что рассказывает? Чёрт знает что!» Ну, она, правда, знала, конечно, очень много. Она начнёт сама рассказывать, к ней даже подходят и говорят: «Ну, прекратите…» А она: «А что, вот это слушать? Что вы даёте? Мои студенты это слушать не должны! Я им расскажу совсем по-другому». На каблуках вот таких ходила… Ой, молодец! Везде нас возила, по всем музеям.
Ещё Шилохвостов у нас был по истории КПСС, какой был мудрый человек! У нас одна студентка была беременная – спать-то хотелось, конечно, и она заснула. А он уже закончил лекцию. Мы все потихонечку вышли. Он её так толкает: «Галь, всё, я закончил, иди». Она: «А? Да?» – и пошла. Но он на ней не отыгрывался, ничего, такой вот мудрый человек был. И ещё вот что я потом уже поняла. У нас ребята были многие из армии, они на лекциях как начинали всю правду-матку раскладывать, всю политику!.. Мы, девчонки, этого не понимали. И он то прямо на корню прерывал все разговоры, а то сам с ними дискутировал. Мы столько узнали на такие темы! А почему он прерывал-то? Оказывается, у нас был такой Зетгенизов, ему уж лет 35 было, мы всё говорили: «И что пришёл учиться с нами? Школяры и ты! У тебя жена, дети – иди на заочку». Такой тупой был, по десять раз пересдавал! А он, оказывается, был стукач и за это ему ставили отметки. Он был директором какого-то детского дома, и ему нужно высшее образование – и вот он учился. Потом на последнем курсе на заочку перешёл. Мы его так не любили… Это уж потом ребята рассказали, что он был стукачом, поэтому Шилохвостов так умно себя вёл, чтобы никого не подставлять, он знал про него. Поэтому когда он сидел на лекции – прекратили все разговоры, а когда его не было…
Были какие-то разговоры, связанные с несогласием?
Да. С несогласием, с политикой, с диссидентством. Тогда уже об этом говорили открыто.
«Ребята перед экзаменом изобрели систему: из одной аудитории в другую провели провода»
Нагаев был таким прекрасным интеллигентом! Он так знал историю! У нас по Средним векам была Лидия Ивановна Гынина. У некоторых преподавателей были записи, они смотрели в них. А она придёт, сядет – и все два часа без всяких записей. Сумочку маленькую взяла под мышку и пошла. Удивительно. Толстая была, новую историю вела, это вообще предмет очень сложный, очень, там столько запоминать – эти революции, эти имена… Ребята перед экзаменом у Толстой даже изобрели систему: из одной аудитории в другую провели провода, вставляют в уши – для этого использовали один и тот же пиджак, одни и те же ботинки (одному были малы, ему чуть плохо не стало, потому что там провода проходили)!
То есть между собой переговаривались? Рация такая?
Да, привлекли математиков, ребят, и вот такое сделали! Толстой они рассказали уже потом, когда мы окончили институт. Она: «Если бы я знала, я бы вам сразу “пятёрки” всем поставила!» Пять человек так прошли – они ничего не учили, только занимались этим изобретением. Но она молодец была. Такие были преподаватели, корифеи, каждый преподаватель на вес золота, столько знал!
Как вы оцениваете в целом уровень образования и то, что для вас дало это образование в жизни?
Я получила образование классическое, очень-очень глубокое. Это мне помогло стать хорошим учителем. Без этого хорошим учителем я бы не стала, потому что нас учили быть Учителем с большой буквы. У нас многие с курса пошли работать в школу, очень многие. Сейчас оканчивают – и кто куда, а мы шли целенаправленно. У нас была Лидия Васильевна Приставкина по педагогике. Мы когда окончили институт, она меня всё звала в институт на кафедру педагогики. «Ой, там надо опять учиться, там надо писать, надо работы делать… Я хочу в школу!» Я уже пошла пионервожатой, а она мне всё: «Давай, давай ко мне! Я тебя поднатаскаю, будешь учить». Я отказалась, хотя потом всю жизнь работала в пединституте, то на очном отделении, то на заочке, на экзаменах сидела.
Мы однажды сидели на экзаменах с Нагаевым. И кто-то сдаёт, а он отметку ставит такую высокую! Я уж молчу – он преподаватель. А потом тот ушёл, я говорю: «Алексей Степанович, как вы к нам строго относились! И как к ним!» А он говорит: «Знаете, деточка, старость такая терпимая вещь…» Я когда стала уже в таком же возрасте, я тоже так стала относиться к своим ученикам. В первое время очень строго, а с возрастом уже как-то по-другому, может быть, и опыт уже был другой. Правда, старость – это терпимая вещь.
Что ещё в студенческой жизни для вас было важным, запоминающимся?
Истфак был одним из самых лучших тогда факультетов. Во-первых, мы знали всех, кто на первом курсе, кто на втором, кто на третьем – по курсам было немного народу, и мы практически всех знали. Тогда был деканом Андреев, а когда перестройка началась, он уже был просто преподавателем, у нас курс вёл. И он совсем по-другому говорил о войне. А у нас был такой Морозов Витя, он говорит: «Виктор Михайлович, а вы помните, нам в институте не так говорили?» Он говорит: «Тихо. Тогда было время другое. А сейчас время другое, говорим по-другому». Я так это запомнила! Витя: «А это как называется?» – «Так и называется. Надо идти в ногу со временем». Он молодец! А он такой был интересный, на Рыбникова похож.
Так у нас на истфаке был хор! Мы пели. И руководил у нас Ковшарь, из музыкального училища, а потом его забрали в Москву, в консерваторию. И вот мы пели на три голоса песни! У меня голоса нет! А он говорит: «Голос есть у всех. Главное – уметь слышать и слушать друг друга». И ходили на репетиции – попробуй не приди! На репетиции Андреев приходил: «Так, кого нет? Все здесь».
А дисциплина какая была? Сейчас свободные посещения, на лекции не ходят – как это так? Самое главное, что мы берём от преподавателя, – это лекции. Это то, что наработал преподаватель, это никогда ни в одной книжке не прочитаешь, потому что в книжке всё это сухое, а у них их опыт, их знания. И у нас староста отмечал каждый раз каждую лекцию у каждого преподавателя, никто никогда не уходил, только если какая-то была серьёзная причина.
А КВН какие были! Истфак всё время в КВН первое место занимал! Тогда это модно было.
Вы гордились своим факультетом?
О, а как же! Нисон Семёнович Ватник с нами учился, он сейчас, по-моему, работает в институте, он сочинил гимн истфака «Звенят колокола» и эмблему истфака. Я сколько раз ходила на посвящение в студенты, и мне у истфака больше всех нравилось. Такие молодцы!
А библиотека какую-то роль особую играла в вашей студенческой жизни?
Да. Тогда книг было не очень много, и мы ходили – по одной книге сидим, читаем, готовимся. Книги были в редких экземплярах, их на дом-то особенно не выдавали, и на руки не выдавали редкие книги. А вот придём в библиотеку – и нам на двоих, на троих выдавали, сидим, конспекты составляем, потому что к практическим надо было готовиться.
Самый сложный для вас предмет был какой?
Самый сложный для меня был немецкий язык, у меня к нему никогда не было ни рвения, ни желания. Даже когда я училась в школе, у меня такая хорошая была учительница Наталья, не помню её фамилию. Она мне: «Лен, ты смотри, не иди на иняз: у тебя ни произношения, ничего». Я говорю: «Да ненавижу я этот язык! Мне лишь бы только отметку получить». Он мне не давался, поэтому я его и не любила и не учила. А у нас была такая Микутская Жозефина Сигизмундовна, полячка. Ой, какая она была строгая! Какая она была строгая! Нам приходилось зубрить целые тексты. Произношение обязательно! А потом она приводит к нам в 14-ю школу студентов. Я смотрю, как она со студентами урок разбирает, поворачиваюсь к ней и говорю: «А я вот этому студенту “двойку” поставила бы за этот урок!» Она голову меня поднимает, я говорю: «Как вы нас-то учили?» А она говорит: «Да. Я уже такая». Ну, уже возраст такой. И у неё судьба очень плохо как-то сложилась, неудачно. Она такая была строгая – даже ребята с другого курса ей однажды отомстили очень нехорошо: она шла на работу мимо общежития, а они с третьего этажа кастрюлю щей на неё, холодных… Она пошла домой, опоздала. Ну, а кто сделал – найди! Они же всё сразу убрали… Потому что она им «двойки» ставила, достала. Она нас достала!
Вы-то городской житель, но всё-таки в общежитие захаживали?
Общежитие было у нас на Комсомольской, где Текстильмаш, там такой дом красивый резной.
Усадьба Ротиных, дом Печенко его называют ещё.
Да, вот там было общежитие сначала, когда только переехали, а потом уже построили общежитие около института.
Сколько лет оно там было?
Год, наверное, – пока строили вот это здание. Я как-то была и с городскими, и с негородскими, общежитскими. У нас в основном городские были. Но в институте на праздники всегда собирались вместе. А когда отмечали окончание сессии – городские отдельно отмечают, общежитские отдельно. Я отмечала с общежитскими большей частью почему-то, у меня и друзья там были. Ну, как-то у меня все были друзья – такая вот я общительная была. Мне очень нравилось на Комсомольской: у них огромнейшая комната, и вот так кровати стоят. Некоторые ко мне домой приходили, когда надо было готовиться – как там готовиться-то? А здесь уже комната была на четверых, здесь уже было попроще. Когда сюда переехали, у некоторых уже любовь-морковь началась, пары появилась. Интересная любовь завязывалась – так приятно вспоминать! Когда мы потом встречались несколько раз с институтскими – вот как свои люди!
Я говорю: не знаю, почему, но мне плохого даже вспомнить нечего. Может, меня плохое стороной обходило.
«Для меня работа была всем. Радостью была работа»
После окончания института как у вас сложилась карьера?
Мама когда умерла, это было очень сильное потрясение – я её очень любила. Мне уже был 21 год, и мы только-только с ней начали сближаться, как женщина с женщиной (до того то школа, то институт…) – и её жизнь прервалась. Для меня, конечно, это было большим потрясением. Отец её очень любил. И он долго, наверное, лет шесть, не женился – так мы и жили: бабушка, отец и я. Когда я замуж вышла, бабушка говорит: «Лен, ты отца с собой бери». А мне хочется с мужем побыть, и отец мой с нами всё время как третий лишний. А куда деваться? Всё время его брали с собой везде – и на праздники, и в кино, и куда шли. А потом познакомили его с женщиной, он к ней ушёл и до конца её дней с ней был. После неё он, наверное, год-два прожил, тоже умер.
Когда мама умерла, я пять лет отработала старшей вожатой. Я благодарна, что отработала старшей вожатой. Я уроки-то вела, но вела только в седьмом классе, и мне это даже не зачли как педагогический стаж. Потому что когда началась перестройка, сказали: партии нет, пионеров нет – и такой профессии, как вожатый, тоже нет. И эти пять лет – обычный трудовой стаж. У нас многие судились, а я не стала. Я 52 года отработала в школе. И я очень благодарна интернату, потому что для меня это была такая школа мудрая, школа жизни! И психологическая, и нравственная, и воспитательная. Я столько много узнала! У нас воспитательница была, Рощина Нина Григорьевна. Умница! Вот у неё голова была! Сочиняла такие праздники! Это сейчас в интернете можно найти всё что хочешь, а тогда ведь ни книг не было, ничего – мы всё выдумывали из головы. Она всё время со мной оставалась, говорила, что ей со мной интересно. Готовили сбор какой-то – она что-то предлагала, я что-то предлагала, из этого составляли. У нас были такие праздники, такие сборы, такие походы! Потом уже, когда интернат закрыли, они встречались и здоровались. И у многих жизнь в правильном русле сложилась, их направили так. Очень было интересно!
Коломзавод был нашим шефом, они нам здорово помогали – и материально, и приходили, праздники проводили, и с оркестром приходили, танцы, репетиции все проводили. Очень было хорошо! На лето детей вывозили в пионерские лагеря. Я ещё работала в пионерском лагере.
Два года подряд работала в «Северке» – это лагерь от Продторга, на берегу реки Северки. Сейчас сколько езжу – никогда даже не могу увидеть, где этот поворот на Северку, всё заросло. А такой был лагерь хороший! Тогда директором Продторга был Гриденко Павел Степанович, авторитетный очень человек в Коломне. Умница такой, Есенина знал – наизусть! Такой порядок был! Когда мы работали в лагере, так было интересно – мне самой было интересно!
Поскольку у меня была практика пионерская, мне легко было работать в школе классным руководителем. Я не только вела историю, но потом мне дали музей истории комсомола (у нас ведь в школе был музей, сейчас не знаю, будет или нет, потому что в связи с ремонтом всё разобрали, думаю, не будет – комсомола ведь тоже уже давно нет). Мы застали ещё всех людей, собирали весь материал по крупицам. Такой музей – чудо!
Это уже в какой школе?
В 14-й. Даже когда чехи приезжали к нам в музей, ребят сами водили экскурсии. Столько альбомов с фотографиями о деятельности этого музея!
Работа вожатой мне, конечно, очень помогла. И в классе, когда я была классной руководительницей, ребята прямо как цыплята около меня. Мои дети (у меня две дочери) говорят: «А мы тебя и не помним ни в детстве, ни в молодости. С нами всё время папа был (папа был врачом), а ты всё со своими учениками, всё со своими учениками. Нас изредка возьмёшь, а так всё в школе пропадала». Для меня работа была всем. Радостью была работа. Правильно говорится: если вы хотите ни дня не работать, найдите такую работу, где вам будет уютно, удобно – тогда вы ни дня работать не будете.
Мне иногда внук сейчас скажет: «Как же ты 52 года отработала?!» А я говорю: потому что я люблю свою работу, вот и отработала. Уже потом школа стала не моя, потому что с бумагами работают, а не с детьми. А мы так не работали! Были, конечно, разные бумаги, но мы работали с детьми. И каждому помогали, с каждым старались, каждому в душу, каждый был на учёте. Вот так было здорово… Я у учеников очень многому тоже научилась. Я им всё время говорила: я вас учу, а вы учите меня, так что вы должны учить меня хорошему, а не плохому – я-то вас хорошему учу.
«Такое страшное, трудное время…»
Перестроечное время как-то отразилось в вашей жизни?
Знаете, трудное время, конечно, трудное время… Что в армии советской было в 90-е годы, что вообще было в стране… Зарплату не платили в государственном учреждении – и нам, и муж врач… Слава богу, пенсию пенсионерам давали – нам отец помогал. Кроме того, у нас сад ещё был, мы всё в саду выращивали, это как-то помогало. У Саши (мой муж) родители в деревне были – и это как-то помогало. Но вообще такое страшное, трудное время.
В магазинах ничего не было. Единственное, что я всё-таки учитель, и родители были настолько благодарны, и они в разных местах работали. Придёшь в магазинах, а там родительница мне: «Вон туда встаньте». Сумку мне выносят. «Деньги потом отдадите ребёнку». Я прихожу, всё посчитаю. Да, вот так… Даже ученики… У нас Киселёв был, сложный такой ученик! Когда из школы вышел, я с работы иду, а там очередь такая за пивом, сил нет стоять. Он подходит: « Ты чего, Елена Алексанна, хочешь?» Я говорю: «Что хочу? Ты что здесь хочешь? Пивка? И я хочу». – «Сколько тебе надо? Бутылки три-четыре? Давай». Деньги дала, пошёл, тут же взял, приносит. Да, говорю, не зря учила!
И муж был врач – его тоже вот так благодарили. Однажды мужик привозит (Саша что-то делал) полмешка песка. Он говорит: «У меня сейчас денег нет, зарплату не дали». А тот говорит: «Потом отдадите». Саша говорит: «Нет, я так не могу, забирай». – «Тогда совсем не отдавайте!» – «Нет, и так я не могу». – «Тогда я пошёл». Оставил этот мешок и ушёл.
Очень было сложно в каком плане? У нас дочь, Наташка, оканчивала школу в перестроечное время, а училась хорошо, на «пятёрки»-«четвёрки». Хотела пойти в медики. Саша поехал в Рязань (он оканчивал рязанский институт медицинский) у ребят узнавать. А тогда ведь не было репетиторов. Он говорит: «Как поступить ребёнку?» Они говорят: «Продавай гараж, машину, сад. И приезжайте. Она у тебя хорошо учится – будет в институте». Вот он вернулся: «Ну, что будем делать? У нас ещё вторая дочь учится, на три года младше. Сейчас это продадим. А когда вторая будет поступать, что будем продавать?» Решили, что она пойдёт в медуху нашу. И она стала поступать в медучилище. А она не ходила на курсы, девочка одна ходила, она давала у себя списывать. И достался вопрос, которого нет в программе, а на курсах преподавательница говорила. Они специально такие вопросики давали, чтобы подсадить ребёнка, потому что с ней девчонка не прошла: она после 10-го поступала и поступила потом в Москву в медицинский институт, а в наше училище не прошла! А поскольку Наташка списывала, она такая добросовестная была, ей этот вопрос достался, и она ответила. Ей говорят: «А вы откуда знаете это?» Она говорит: «На курсах вы рассказывали». И она прошла в медуху, окончила и работала медсестрой. Саша всё время говорил, что из неё вышел бы хороший врач. Ну, что теперь делать? Заочного нет, а потом она замуж вышла, родила – уже не до того. Потом она окончила наш пединститут, на психолога. А сунулась куда работать – о, с восьми до шести, и зарплата меньше. Она говорит: «Нет, я не пойду. Я люблю свою работу». Так и осталась. А это не учитывается нигде, что ты медсестра хорошая и ещё психолог…
Вот такие были трудности у нас. А вторая дочь пошла через три года в пед, на физмат. Здесь я, конечно, подстраховалась – к декану пошла, а он мне говорит: «Она что у тебя – такая дурочка?» Преподаватель к ней подходит: «Так, какие трудности, вопросы?» Она говорит: «Нет никаких трудностей». Он отошёл, и она сама всё сдала, поступила. Сейчас работает учителем математики и информатики, физики.
«С этого начинается человечество!»
Давайте вспомним какие-то важные городские события. Например, 800-летие Коломны, это 1977 год.
Я, знаете, помню, когда мы закладывали капсулу на площади Двух Революций, в институте мы учились, на третьем курсе. Такое было шествие! Нам каждому давали факел на палке, из жестяной банки делали, а там горел огонь. И мы вечером с этими огнями пришли на площадь, нам зачитали текст из капсулы, замуровали её. Это так мне врезалось в память!..
Я помню 1 Мая, 7 Ноября – изумительные для нас были, мы до сих пор друг друга поздравляем. Это праздники с демонстрациями, когда всех приветствуют, когда мы ходим, гуляем, обязательно что-нибудь себе шьём новенькое. Это сейчас каждый день всё новое, и за столом каждый день всё есть, а тогда ведь редкость была всё-таки: если колбаски покупают, то грамм 200 – хватало, аккуратненько. Тогда много, мне кажется, не ели. Вот такие праздники.
А 800-летие Коломны не помню. Хотя сама работала экскурсоводом ещё.
Где работали экскурсоводом?
А кто меня попросит, тех я вожу по городу.
Это недавно вы стали водить?
Нет, когда в школе уже стала работать в 14-й. Я работала в институте очень много: у студентов очников работала, вела педагогику, внеклассную работу вела у заочников. И я всех водила на экскурсию по Коломне. Я сама коломенская, поэтому я историю Коломны неплохо знаю. Сейчас уже экскурсоводы все профессионалы, все рассказывают по-другому. У меня дочь, когда приезжала с учениками, я тоже ходила. Я не так рассказываю: я люблю стихи, люблю то, что им надо – о людях, а здесь – о правостороннем движении, о левостороннем движении. Вот если бы экскурсовод о людях сказал, какие знаменитые в Коломне – ни разу не назвал. Почему так Коломна названа? Никто не спросил. А это первое! Ко мне дети когда приходят в пятый класс или в музей, я начинаю спрашивать: а почему вас так назвали? Многие не знают, почему их так назвали. Ну как же так?! С этого начинается человечество! Узнавайте! Приходите на урок, будете говорить, почему вас так назвали. И тогда родители приходят и говорят: «Что вы какую-то ерунду задаёте?» Я говорю: «Это не ерунда! Это очень важно!» И когда ребёнок узнаёт, что в честь деда, возникает вопрос: а кто дед? Узнавай!
У нас в школе ввели предмет, который я вела ещё в младших классах, – окружающий мир. Тогда это только-только вводилось – ни программ, ничего не было. Я составила свою программу. Директор всё утвердил, тогда это можно было. Я как считаю: с чего начинается окружающий мир? Сейчас там что-то из природоведения, из истории – это всё глупости, отдельные факты, которые ничего не дают. Что такое окружающий мир? Вот ты человек, да? Кто ты? С тебя начинаем. Потом кто дальше? Семья. Дальше кто? Школа. Какая школа? Что ты о ней знаешь? Твои учителя. Дальше что? Улица. Вот мы про улицу Шилова узнавали: кто он, почему названа? Дальше что? А дальше город, Коломна. И вот в течение года мы всё это изучаем. Я считаю, что это и есть окружающий мир. А не то, что отдельные моменты из разных предметов вводятся. Потом уже официально ввели учебник, и это всё прикрылось.
Вот поэтому я всё время водила экскурсии. А однажды у меня учитель немецкого языка была, к ней родственники приехали из Москвы, она говорит: «Лен, проведи, где что, расскажи». И мы пошли по Коломне. И идём по Лажечникова, я рассказываю, вдруг мужчина подходит и говорят: «Вы из какой туристической организации? Вы имеете право?» Меня такое зло взяло: «Знаете чего? Я родилась в Коломне. Я выросла в Коломне. Это мой город. Это моя улица – я по ней в школу ходила. А это мои друзья. Я что знаю, то и рассказываю. Какие ко мне вопросы?» Вопросов нет, а всё равно неприятно так стало…
«Мне нравится удивляться»
А все-таки город-то меняется? Может быть, расскажете о своих ощущениях?
Прошлое не меняется. И история не меняется. Факт – он не изменяется, меняется оценка этого факта. А факт остаётся фактом. И прошлое остаётся прошлым. А вот современность вносит свои коррективы. Мне, например, нравится, что то, что было забыто, заброшено, сейчас возведено во главу угла. То, что Коломна стала туристическим центром, – это очень хорошо. Потому что город, слава Богу, которым надо гордиться. Есть, что показать здесь, столько музеев здесь интересных. Я ещё не все музеи обошла!
Какие бы вы выделили музеи?
Мне нравятся все музеи на улице Лажечникова. Это очаровательно! Библиотека Лажечникова – это мудрость, конечно. Библиотека Королёва – это кладезь. Сейчас новые веяния в библиотеках: не только придёшь, почитаешь – там и фильмы показывают, и встречи проводят. Хотя мы с библиотекой Королёва, когда я в школе работала, были в очень тесном контакте: мы постоянно заказывали книги, они проводили встречи с кем-нибудь; Денисов с нами очень хорошо работал всегда, у которого музей коммунального хозяйства, и клуб краеведов он ведёт. До сих пор этот клуб краеведов, сейчас там отношения новые, меня не совсем устраивают, потому что, когда молодёжь начинает защищаться, а старики начинают их топить… Не надо этого делать – у каждого есть свои недостатки, можно указать, но не при всех.
Потом, старая часть города – я люблю там ходить, бродить: и дороги устроенные, и музейчиков столько, театр пастилы. Я всем рекламирую: ходите, смотрите. Мы сами то и дело ходим. Это здорово! В прошлом году ко мне приятельница приезжала из Обнинска, мы с ней хотели пойти в Музей бабьей доли, который у Коломенской станции, но он почему-то был закрыт. Зато мы старую часть города посмотрели. И нам дети взяли билет в Музей мёда – я даже не знала, что он есть. Сколько я ещё не знаю – я удивляюсь! И мне нравится удивляться. Хорошо, что люди работают, исследуют. А сейчас прочитала в газете: Дом Сурановых открыли. А где он находится, я даже не знаю… Я когда водила ребят в краеведческий музей, там работала женщина, такая маленькая-маленькая ростиком, – она была, по-моему, из этой семьи Сурановых. Она любила со мной разговаривать!..
У вас есть любимый прогулочный маршрут?
Да. Я обычно делаю так: иду по скверу Ленина, потом по скверу Зайцева, мне очень нравится, мимо «Дома Озерова», если есть время, захожу в него, дальше иду мимо школы седьмой (теперь 14-я школа), дальше иду по плашкоутному мосту. Если есть время, я ещё по старому Арбату (я его называю Коломенский Арбат) к бане прохожу (там сейчас, наверное, ещё не открыли музей артиллерии). Мне очень нравится гулять по Мемориальному парку – там столько нового, я всё время с внуками там гуляю. Потом я иду через Пятницкие ворота, по площади, по Блюдечку, потом или по Косой горе спускаюсь (я так в школу ходила) к церкви Михаила Архангела, или по улице Лажечникова возвращаюсь. Постою около дома Лажечникова, покланяюсь – и еду домой, на остановку «Улица Дзержинского».
Когда с приятелями хотим отдохнуть, тоже идём в старую часть – там совсем аура другая. Там как будто жизнь замирает. Как будто тебя действительно окутывает старина.
У меня ученица одна работала в Мостоотряде, и они меня приглашали, чтобы я у них экскурсии проводила: к ним приезжали из разных городов мостовики. И вот на автобусе я их возила, рассказывала. А однажды приехали на машине какой-то начальник, несколько человек. Я их здесь провела, потом в Колычёво. А он сам из Москвы, на Садовом кольце жил, сейчас живёт в Израиле, сюда приезжает по работе (там дети, и он поэтому там). И вот мы стоим в Колычёве, и я его спрашиваю: «Как вы в Израиле? Скучаете по России?» А он говорит: «Я то и дело приезжаю, у меня есть квартира на Арбате, приезжаю по работе, поэтому как-то я не ощущаю это. В Коломне я второй раз, первый раз я ничего не видел, меня никуда не возили. А вот сейчас я походил, и вы знаете, у меня такое ощущение какой-то успокоенности, какого-то удовлетворения. Мне так хорошо!.. Мне кажется, здесь какой-то воздух совсем другой. Это так здорово, что мне предложили эту экскурсию! Это необыкновенный город. Эта старина как будто не только убаюкивает, она как будто тебя обволакивает. Я как будто чище становлюсь. Вот вы что-то рассказываете, а мне иногда стыдно за свои поступки какие-то становится…» Я говорю: «О, как на вас действует наш воздух! Это наш небесный покровитель, Филарет, на вас так влияет». Он говорит: «Да. Я прямо как будто очистился от всей скверны».
Вы, наверное, тоже попутешествовали в своей жизни? По разным, может быть, и городам, и странам…
По странам нет. По городам России да. За границу… не знаю, мне как-то она не очень мила. Сестра 20 лет жила в Голландии, говорит: «Все ко мне приезжали, кроме тебя!» Я говорю: «Не хочу я в Голландию. Мне на Байкале больше нравится, чем в Голландии». Я по России с дочкой сейчас езжу, по монастырям, по старым городам – вот это нам нравится. По Кавказу, по Крыму – вот это моё.
Как Коломна выделяется в этих впечатлениях?
Как у меня зять скажет: работать надо в Москве, а жить в Коломне. А сам он из Питера. Знаете, когда где-то бываешь – восхищаешься, а когда подъезжаешь в Коломне – и выдыхаешь. А! Своя стезя, своя родина! Вот это моё!
Вам не тесно в Коломне? Вам хватает масштаба?
Да. И воздуха хватает, и масштаба хватает. Хотя, здесь на Стометровке в магазинчике одна торгует тряпками, мы с ней разговорились, она откуда-то с Урала что ли, она говорит: «Знаете, а в Коломне противные были!» Я говорю: «Да? Не знаю. Мне не попадались такие в моём окружении. Наверное, каков человек, таково и окружение, я так думаю». Она говорит: «Вам такие не попадались?» Я говорю: «Не знаю. Я как-то на них особенно не останавливалась, не акцентировала внимание. Мне больше попадаются люди положительные, с которыми хочется общаться». Она говорит: «Вы, наверное, сама такая, вот и общаетесь». Всё-таки Коломна – город более-менее благополучный. Здесь ведь не было никаких катаклизмов особенных – ни революции, ни голода 1929–1930-х годов. Бабушка мне рассказывала, что не было такого, потому что здесь в основном огородники, частный сектор, у каждого была земля, все выживали. 1937-й, 1938-й прошлись, как и везде. Войны здесь тоже не было, не захватывали. Работали как-то более-менее благополучно. Как говорят, Филарет, небесный покровитель наш, охраняет город.
У города довольно длительное время был статус закрытого. Как вы думаете, это как-то повлияло на характер города и граждан?
Ну, конечно. Просто он не был туристическим центром, и многим работавшим на этих предприятиях за границу нельзя было выезжать. И особо не обращали внимания… Когда экскурсию вела, по Пятницким воротам пройдёшь – хоть глаза закрывай: стыдно! Такая неухоженность, неустроенность!.. А потом уже стали… Мне очень нравилось при Шувалове: хоть он и пришлый, с Рязанщины, но он как-то влился и впился в наш город, он стал не только наш, он стал его. Шувалов, конечно, много вложил в украшение, в развитие – не сразу, постепенно, но с него началось возрождение коломенской старины. Потом был Лебедев – ну, старался человек. А вот что сейчас? Пришлый. Я, например, против этого. Раньше ведь выбирали мэра, и правильно делали, что выбирали. А что сейчас-то назначают? Пришлого назначают… Что, своих никого нет? А пришлый человек… это не его дом. А когда не его дом, так и относится – как к чужому.
Шувалов – исключение, да?
Он приехал после техникума сюда. И этот город стал его домом. Он так о нём заботился, он его так любил! Он и сейчас любит – он же здесь живёт, иногда только уезжает, где у него недвижимость за границей. А новый мэр где живёт? В Егорьевске. Придя к власти, он поменял весь аппарат – новая метла метёт по-новому. А так разве можно? А куда ж ты дел старых хороших специалистов?
«Верить надо: плохое будет, конечно, но из плохого есть выход»
Может быть, есть какие-то важные истории, периоды, события, о которых мы с вами не успели поговорить?
Не знаю, я ведь большей частью работала в школе, с детьми. Ну, как мы реагировали на события? Реагировали. Когда в церкви Петра и Павла был музей боевой славы, мы то и дело туда ходили. Позвонят: «Ой, нам уголь привезли, разгружать некому!» Сейчас же школьники 14-й школы идут, цепочкой встали – весь уголь быстренько перекидали, всё подмели, всё сделали. Вот так мы реагировали. То есть мы были в гуще, конечно. Нужно было дом Лажечникова ремонтировать – школьники в воскресенье идут мусор убирать. Когда Ксения (настоятельница монастыря – ред.) начала Ново-Голутвинский монастырь благоустраивать – мы там идём работать, расчищаем, моем, убираем.
Просили школьников, официально?
Мы сами, добровольно – нам хотелось принимать участие, помогали. И за это нам никто ничего… Более того, тогда были сдвоенные уроки, и я в эти сдвоенные уроки могла с учениками идти на экскурсию, куда угодно – по Коломне или на какую-то фабрику, или в музей. Это не на словах были уроки по краеведению. Сейчас ведь нельзя, сейчас всё строго: вот тебе дали программу – всё! Шаг вправо, шаг влево – нельзя! А тогда можно было.
Это когда?
Когда я работала, в советское и перестроечное время. Мне перестроечное время чем нравилось? Что я могла высказывать свою точку зрения, например. Мы однажды начали говорить о равенстве. А я говорю: «Полного равенства быть никак не может. Мужчина и женщина разве равны? Ребёнок и взрослый? Или старик? Неравны, конечно. Социальный статус. Один сильный, другой слабый. Какое равенство? Равенство должно быть в социальной жизни: от каждого по способностям, каждому по труду – вот в этом должно быть равенство». А там сидела учительница, коммунистка, на последней парте, она встаёт и говорит мне: «А вы что, в коммунизм-то не верите? Когда все будут равны?» А я говорю: «А вы-то верите?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Ну и слава Богу, и верьте на здоровье». Прихожу, мужу рассказываю, он говорит: «Лена, завтра придёшь, а тебе скажут: мы в ваших услугах не нуждаемся. Ну, разве так можно?» Я говорю: «Да ладно, не будет она ничего говорить».
Видимо, вы высказались, когда ещё не всё можно было открыто говорить?..
Уже такой переход – и можно, и не можно, можно и осторожно. Потом уже можно было свою оценку давать. Рассказываешь по истории, а меня спрашивают: а вы как относитесь? а вы как думаете? Я – вот так. А вы – это вы, смотрите сами, потому что надо изучить, взвесить…
Помню, министр просвещения Косоножкин тогда школу нашу посетил, а я пришла на работу и не знала. Мне завуч говорит: «Сейчас к тебе на урок приду». У меня 10-й класс: Советский Союз в 50–60-е годы. А что говорить-то? В учебнике одна вода, больше ничего нет. Какие наглядные пособия? Да нет никаких наглядных пособий! Я прихожу и говорю: «К нам в школу едет ревизор». А я всё время давала по каждому периоду ученикам докладики о Коломне, сообщения они готовили. И мы на уроках их обсуждали. Ну вот, я пришла и говорю: «Я начну общую характеристику. А вы готовы по Коломне?» – «Да, готовы». И я начала, а потом они на примере Коломны, как город развивался, там же много интересного – какие у нас и заводы, и фабрики, и люди. Потом министр встаёт и говорит: «Можно я вопрос задам ребятам?» Я говорю: «Не знаю, давайте их спросим, можно задать вопрос или нет?» А они: «Пожалуйста». И они так бойко отвечали, он такой довольный вышел! И стоим в коридоре, он говорит: «А что вам не хватает, что бы вы хотели?» Я говорю: «Приехать в фильмотеку, была такая организация в Москве, чтобы там фильмы, наглядные пособия…» Наша завуч, Редькина Тамара Васильевна, вот так на ногу мне… «А в остальном все хорошо!» Ему и не надо было слышать ничего. Вот какое время было!..
Какой год?
1980-е, может быть, 1982-й, может, 1983-й.
Так а что с фильмотекой-то всё-таки?
А там не было ничего! Приезжают за фильмами, за картами, за картинами, за диафильмами – всё старое! Они же должны нас снабжать, а ничего нет. И в магазинах ничего нет. Мы на свои деньги, если где чего увидим, покупали. Вот у меня своя серия диафильмов была, особенно по Древней Греции, с пластинками. Вот ведь как было-то! И наглядных пособий у нас никаких не было. Вот как урок-то вести? На пальцах рассказывать? И учебники такие были: ничего нельзя ведь было в 50–60-е годы, о плохом-то не говорили, только хорошее. И не любили проверяющие слушать то, что они не хотели бы услышать.
Какое-то лукавство витало в воздухе, да?
Конечно.
А как это могло влиять на детей, как вы думаете?
Они были в таком возрасте, когда ещё не могли определять правильно, на 100%, что хорошо, что плохо. Они только пытались разобраться. Ну, и о плохом этим юным душам, которые только-только в стадии становления, тоже не хочется, надо с умом всё ведь делать. Потому что начинать надо с того, что верить надо: плохое будет, конечно, но из плохого есть выход, всегда, в любой момент, только надо желать, хотеть этого и уметь это делать. Вот с этой позиции к ним подходили.
Мне кажется, хороший финал нашего разговора – про то, что нужно уметь видеть хорошее.
Даже в плохом, говорят, надо находить хорошее. А плохое даётся затем, чтобы вы потом могли увидеть хорошее. А то не поймёте, как говорил Маяковский, что хорошо, что плохо!
Спасибо, Елена Александровна, за ваш хороший рассказ.
правила пребывания в музее
льготные условия
правила продажи и возврата билетов
пользовательское соглашение
политика обработки персональных данных