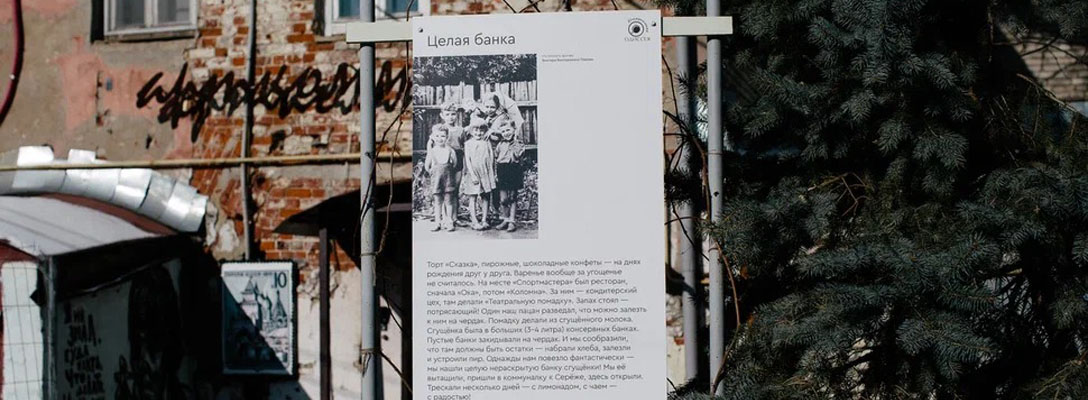«Смысл в том, чтобы было НЕЧТО»
Рассказчик: Алексей Алексеевич Чиненов.
Собеседник: Екатерина Ойнас.
Дата интервью: 29 февраля 2024 года.
Дата публикации: 18 мая 2025 года.
Сегодня 29 февраля 2024 года.
Екатерина, спасибо большое. Если бы меня спросили, какое сегодня число, меня бы заклинило. А потом бы любой психиатр определил, какое число, какой месяц, какой год. Раз у нас разговор о советском времени: поступает больной в психиатрическую клинику. Его спрашивают: «Какое число?» – «Э-э-э». – «Какой месяц?» – Он так же мекает. «Какой год?» – «Юбилейный». У нас же каждый год был юбилей. Сейчас тоже: годы семьи… вернулись в то же самое.
Полностью представьтесь и скажите, где и когда вы родились.
Алексей Алексеевич Чиненов. Более известен под кличкой Пианист. По некоторым сведениям, предоставленным свидетелями, родителями, поскольку у нас с рождения младенца открывается сразу же дело в определённых службах, родился в городе Коломна. Сам этого не помню естественно, слишком давно было! В ноябре 1971 года произошло это. Все мы рождаемся, это естественно, это нам кажется чем-то знаменательным, потому что, наверное, мы много о себе думаем.
Чем жила семья, когда вы родились?
Самое интересное, когда ты грудной ребёнок, ты запоминаешь, чем жила семья!
Наверняка вам рассказывали родители об этом.
Я скажу так: как и все, были озабочены квартирным вопросом. Мы не в коммуналке жили на тот момент. Мать из Озёр, отец из луховицких деревень, познакомились здесь, в городе, когда ходили в пединститут на подготовительные курсы, но так и не поступили. Любовь зла, затянуло в то, что нужно работать. Это была улица Добролюбова, пятиэтажки-хрущёвки – кооперативные однокомнатные квартиры. Потом менялись. Года три мне было, переехали на Пионерскую, 56 или 58 дом, когда мне было десять лет – на Шилова. Все квартиры были кооперативные. Когда был обмен родственный в Озёрах с дедом, там была у него государственная квартира, я год прожил в Озёрах, это было лет 18 спустя, в государственной, это то, что сейчас можно назвать социальным наймом – была плата 4.50. Кооперативные квартиры – там надо было сколько-то выплатить сразу, общая стоимость была 5500, где-то так. Если за «однушку» 4.50, то за «трёшку» 10–12 рублей люди платили, и кроме этих денег платили 50 рублей – погашение. Конечно, это не ипотека, но растягивалось лет на 15, аналог ипотеки в этом плане есть. На предприятиях люди по 20 лет стояли в очереди на квартиру. Особенно было смешно, когда достоялись – и Союз распался, и всё это полетело. Были, конечно, предприятия, где давали. Знакомый у меня, с которым учился, ему дали служебную квартиру сразу, но он работал на почте, а это тогда была тяжелейшая работа. Это сейчас у всех интернет, а тогда выписывали газеты и журналы, всё это надо было 2–3 часа слюнявить, куда кому привезти, с колёсиками сумками все обвешанные они ходили и всё это раскладывали. Это не просто сейчас принести письмо. Сейчас никто не подписывается, газеты, если что, купим. Вот там давали служебную квартиру сразу. Про администрацию говорить не будем, а то скажут, что оскорбление власти, хотя это про старую администрацию, нынешняя-то хорошая!..
«Всё время ездили поезда, и всё время прыгал чайник»
Подробнее про маму и папу расскажете, кем они были тогда?
Они у меня больные и старые, 83 и 88 лет. Это ужасно с одной стороны, прекрасно с другой. Я сам еле ползаю, лекарства, с соцслужбами разобрались, чтобы хотя бы еду приносить – они же из дома выходить не могут. Это беспомощность, не лежат, но уже беспомощность ― это серьёзно. Папу 1 января шарахнул инсульт, еле поставили на ходунки.
Обычная семья. У него не было отца, он один раз с ним встречался. Никаких родственников с его стороны я не знаю, это за Луховицами, за рекой Воблей, там Аксёново, Псотино деревни… В семь лет начинали курить, потому что все курили. Это были военные, 1936 года рождения. Даже будки не было, ходили просто в кусты из дома. Жил со своей мамой, потом они сюда переехали. В гости он меня водил ребёнком: через все пути проходили в Голутвине (это сейчас там всё перегорожено, а тогда спокойно проходили), и был на несколько семей маленький домик, на три-четыре входа, всё время ездили поезда, и всё время прыгал чайник.
Уже бабушку перевезли из Луховиц в Коломну? Виделись редко.
Да. Он водил в гости.
По материнской линии: она жила со слепой бабкой, был у неё отец.
Как их зовут?
Папу назвал я в честь себя: Алексей Алексеевич Чиненов! Полный тёзка, вылитый я! Мама – Любовь Александровна, девичья фамилия Дронова, известная фамилия в Озёрах, но с не очень хорошей стороны: папа её любил зашибать, она жила со слепой бабкой. Когда она была повзрослее, папа женился, жена его держала. Они жили в полуподвальчике, потом снесли его, чтобы в центре города что-то построить, дали им в микрорайоне Катукова однокомнатную квартиру. Потом был родственный обмен после смерти бабки, после этого он сорвался и снова стал сильно пить. Так что семья самая обычная, рядовая, в данной ситуации всегда имеются свои плюсы и свои минусы.
Какие-то особенные воспоминания из вашего детства, атмосфера детства?
Многие молодость вспоминают, вспоминают те времена как хорошие. Частично потому, что мы были молодые, воспринималось всё по-другому, были полны сил и энергии и ещё многого не знали.
Сейчас об этом времени не можете размышлять так?
Я не размышляю как большинство. Размышлять, что это было хорошо, радужное детство – чего было хорошего, чего радужного? Все жили по-разному. «Мир наизнанку» – передача, которой уже нет, естественно, с определённых событий, когда человек ездил и показывал: во Вьетнаме живут в нищете, но счастливо, а в богатых семьях ни в чём отказа нет, но они несчастны.
У вас какое было детство?
Обычное.
Вы об этом вспоминаете как о светлом периоде жизни или сложном?
Вопрос ставит в тупик. Почему обязательно нужны крайности? Светлое, тёмное… Не было бы ребёнка, не стало бы взрослого – это естественный период, не больше и не меньше. Как все обычные дети гуляли, играли в догонялки – это светло или не светло?
Это на Добролюбова?
Нет, на Добролюбова до двух-трёх лет жил, я его не помню. Это уже на Пионерской, это недалеко от пруда, где поставили многоэтажку на пруде.
Дом сохранился, где вы жили?
Да. Если возьмём пруд, от него будет небольшая рощица, на которой сейчас построили элитный комплекс, потом длинная многоэтажка шестиподъездная, за ним двухподъездная девятиэтажка с окнами, как у нас любили делать. Обычный панельный дом, но любили на домах экономить: на кухнях ставить окна поменьше, нормальные в комнате, а на кухне чуть-чуть поменьше. Обычный двор, обычные горки, обычные лестницы – стандартно для того времени для обычных семей. Ничего не могу сказать, о чём можно было бы сказать: ой, как было здорово! Муравьи были, помню, бабочки, стрекозы были. Сейчас нет. Но это общая штука, экология. Как-то на одном из конкурсов был разговор: какой у вас хороший зелёный город. Я говорю: «Да ладно!» Я помню, весь Голутвин был зелёный, мать в Госстрахе работала, ходила в частные дома (там обязательное страхование было), был зелёный парк, где сейчас Голубой район, там всё было зелёное. Мне говорят: «Ты не понимаешь! У нас в Одинцове стоят две 20-этажки друг напротив друга, и ты только видишь окно соседа и что он там делает, если занавеску не закрыл, – и больше ничего». Я понял, что всё познаётся в сравнении. Хоть у нас это тоже сдвинулось, но пока ещё не настолько.
На Репинку бегали? Это же рядышком. Как она выглядела в 70–80-е?
Конечно. Там были какие-то пруды, где перейти в Пионерскую, их называли Репинскими прудами, только самой речки не было, за ними были садовые участки коломзаводские. На эти пруды мы ходили, меня бабушка водила ещё совсем ребёнком. Бабочки, стрекозы, ребёнок маленький шестилетний бегает вокруг бабушки. Была дорожка как цифра 8, по этой дорожке в догонялочки играли. Так себе, всё обычно.
Единственное, живность хотя бы была, бабочки, стрекозы. Потом я видел их только на Голубых озерах. Сейчас, наверное, и там их нет, там такая сейчас грязь – это жуть! Мы в 90-е туда ездили с рюкзаками, 132 километр была платформа (кто-то до Луховиц ехал), сходили, шли пешком по тропинкам до озёр. Там песчаные пляжики, большое озеро, которое было полноводнее в конце 1980-х – начале 1990-х. Если пляжик занят, идёшь дальше ищешь. Когда в нулевые на машине привезли, я говорю: «Ох-ох-ох…» На каждом пляжике по несколько палаток с машинами. В 1990-е там нудистский пляж делали – все стороной проходят, другой пляж ищут. Попробуй сейчас устроить – там же куча народа друг на друге, какой там нудистский пляж, это уже общественное место. Когда в институт поступал, ездил туда, за стрекозами наблюдал, за жабами, как они их едят, местечко себе облюбовал. Дети из Городны на велосипедах приезжали в 1990-е годы, ловили ужей, здесь на рынке продавали. Зачем, не знаю, может, кто-то в террариум, может, кто-то ел. Это 1999 год.
«Моё внимание привлекали руки музработника»
Я поступал с перерывом, из училища, на исторический факультет в наш пед, я никуда не дёргался. В этом плане с городом мне повезло: я всё-таки человек не общежитийный. Училище есть своё музыкальное, пединститут есть свой музыкальный, дойти близко, удобно, не нужно общежитий, лишней головной боли. В этом плане повезло с местом рождения, что в городе это к тому времени было.
В общем, готовился там к экзаменам. До этого на Коломенку ходил на пляж и на Оку, играли в волейбол. Оку переплывал – это было удовольствие летом. Да, было здорово. Сейчас другое. Из другого тоже нужно извлекать всё, что можно.
Вы очень связаны с музыкой. В нашем представлении вы человек мира искусства, мира музыки. С какого момента это началось?
С детства.
В семье был инструмент?
Ничего не было! Я же говорил вам, какая семья!
Кто-то отвёл вас в музыкальную школу?
В те времена это было престижно. Вы читали Елену Карягину? Я Веронике рассказывал, как начался разговор с Еленой, лет 14 было назад, ещё до инсульта. Тогда программа «Синема» – немое кино – была в усадьбе Лажечникова. Она позвонила. Люблю людей с чувством юмора! Она говорит: «Как вам удалось в 21 веке в этом городе стать первым и единственным тапёром немого кино?» Я сказал: «Детство было трудное, маму не слушался!» После чего она приехала сама, сказала: «Мне понравился ответ, я сама возьму интервью».
Есть не фатализм, а что-то всё-таки… Людям кому-то дано от бога быть шикарным плотником. Я видел плотника, который вставлял замок, не мерив, сразу же вырезал. Это от бога плотник. Есть от бога художники, музыканты. Есть ещё какие-то обязательные составляющие. Я знаю талантливых людей, которые никогда не сыграют так, как я, по одной причине: у них может быть на голову выше талант, но нет хорошей школы или не повезло с учителями. У учителей ведь тоже есть процент хороший и процент плохой. И у сантехников, у всех так же. У меня есть воспоминание, что с детского сада были уроки музыки. Но не музыка заводила. Странно, но почему-то моё внимание привлекали руки музыкального работника, который играл на пианино в детском саду. Потом был оркестр, я помню, дирижёр меня поднял, сказал: «Это будет мой преемник». Парковый оркестр был у нас в парке Мира, там по воскресеньям играл духовой оркестр, все танцевали, а ребёнок (я) двумя руками дирижировал.
«Состояние оголённого нерва»
Я вернусь к тому, что Елена Карягина брала интервью. Там было перечисление слов и ассоциаций на эти слова. Одно из слов было «алкоголь». Большинство действительно музыкантов (а не тех, которые ходят в пиджаках и платьях), типа Эванса, которые импровизировали на сцене, от бога – они же все на наркотиках или на алкоголе. Тот же Высоцкий, он великий артист, он не певец, но он энергетикой работал. Так любой работает музыкант, и не только музыкант. У нас есть замечательная певица Елена Шелобанова, к сожалению, она уже в возрасте, не работает, она замечательный педагог – редкое совпадение, когда человек умеет и делать, и преподавать. Большей частью это не совпадает. Я помню, как она учила ученицу: три года это был гудок на одной ноте. Все плюют в таком случае. А на четвёртый год – замечательное меццо-сопрано, на пятый год – конкурсы. Я не ожидал, что получится! Должно ещё повезти с учителями. Я говорил про энергетику, так вот она всегда выходила со сцены, у неё мокрые рубашка, платье, спина. И я выходил всегда с мокрой рубашкой.
Кто вышел покрасоваться – ну, они сделали хорошо, сыграли. Любой артист работает на том, что он всё чувствует, это невероятное количество энергии, ты дико потеешь. Когда все учатся, 6–8 часов играли в музыкальном училище, это нормальное дело при поступлении. 40 минут – и у меня рубашка мокрая, через два часа я просто больной. Но за два часа мне удавалось сделать столько, сколько другие за две недели по 6–8 часов. Это данность природная, не моя заслуга, но за это приходилось вот так платить, пришлось расплатиться и своей болячкой тоже. Никуда от этого не деться, чтобы поддерживать состояние оголённого нерва, который всё чувствует – музыку, публику, с кем играет. У того же Эванса трио – контрабас и барабаны – они сочиняют втроём на ходу, на сцене импровизируют.
Роль публики в этом тоже есть?
Её энергетика обязательна!
Получается, вам надо с этой энергетикой соединиться?
Я не знаю, как это происходит, но происходит обязательно. Оно прошло, было красиво, но не было НЕЧТА. Смысл в том, чтобы было НЕЧТО. Актёров много в кино, но почему-то одни актёры завораживают, а другие и красивые, и приятные, и внешность – но что ты играл, что не играл, какую ни дай роль, хоть первую, хоть вторую. Раневская всю жизнь играла на вторых ролях, ей не давали первые роли, скандальная тётка была, с режиссёрами всегда по-своему делала, но фраза «Муля, не нервируй меня!» – это её фраза, этого нет в сценарии. Весь этот фильм «Подкидыш» ни о чём, играют там никак, но его помнят только из-за того, что там несколько минут играла Раневская и из-за её фразы, сходу придуманной.
Мы про алкоголь начали. Было написано, что перед концертом баночку джин-тоника для куража, нужно 0,33. Я рассказывал это Елене Карягиной. В праздники, особенно на 9 Мая, по три концерта в день, и в районе, и здесь, и коллектив «Каменное дерево», и по школам, приглашали тогда везде. Сейчас я уже сам никуда не смогу, а тогда люди пытались что-то сделать не для галочки, а чтобы было нечто.
Это когда активность вашей концертной деятельности была?
В 1990-х. Потом активности стало больше, концертов, конкурсов стало больше, но толку стало меньше. Главное – количество, а тогда нужно было качество, гонялись за качеством. Если вспомним «Служебный роман», режиссёр за Алисой Френдлих гонялся, она в Питере была в театре, она приезжала в ночь на выходные, за выходные снимала, потому что она нужна была, а не кто-то другой, качество, а не количество.
Кто требовал качество? Публика? Так складывалось время?
Понятия не имею! Я не готов пока ответить. Наука здесь бессильна, она может только констатировать, что это есть. Почему есть чума, холера – она просто есть в природе, в цепочке. Почему есть нацисты, коммунисты и прочие – природа человеческая так устроена, что должно быть. Почему есть олигофрены, гении, всякие градации – природа такая. Тот, кто не гений, тот уже не человек, тот, кто ниже, чем олигофрен, тоже не человек… Человечество должно включать в себя всё! Движение общества идёт по кругу, шарахается в разных вариациях, как маятник. Не в развитии, в развитии только техника идёт, и то бывает постмикенский регресс, средневековый регресс после захвата Рима, когда и технические достижения утрачивались на какой-то период.
«Культура не в том, что ты весь вот такой»
В интервью я сказал, что, когда идёт череда праздников, после этого надо закрыться и напиться, всё с себя скинуть. Музыкальная школа разделилась на два лагеря. Один: зачем ты написал, что ты пьёшь? Иначе меньше надо играть, много сил уходит. Во-первых, все знают, что на праздниках мы отмечаем, все знают, что я нормально выпью. Но ещё не хватало, чтобы все знали, что я вру, это будет перебором. Наш замечательный теоретик, она уже не работает (в школе с теорией сейчас, большей частью, большие проблемы), Людмила Николаевна Казакова, меня прямо затащила в кабинет: «Лёшка, молодец! Так надоело читать про культуру, про искусство, что человек родился, не ест, не пьёт, в туалет не ходит, только думает, как нести искусство людям, ходячий памятник! А это хоть нормальный живой человек, так редко это можно увидеть, просто человека, который занимается делом. Не памятник искусству, а человек!»
Вам эта позиция близка?
Более чем! Несколько лет назад в нашей музыкальной школе, я уже не ездил, поехали в театр от музыкальной школы, и там от комитета по культуре 5–7 человек было, бухгалтеры. Это было до инсульта. Сейчас там уже порядки поменялись, но преподы были люди живые. А эти все были культурные, это называется «из себя строить». Культура не в том, что ты весь вот такой. Культура в том, что ты хорошо делаешь своё дело, в первую очередь, никому не делаешь плохо, не подсиживаешь. На обратном пути из театра преподы разложили поляну с вином, с закуской, песни поют всю дорогу, шофёр подпевает. И сидит комитет по культуре, бухгалтеры, культурные деятели, культурнее учителей: «Мы культурные, вы от вас нос воротим, вы себя некультурно ведёте!»
Если человек чего-то добился, что-то из себя представляет… пообщайтесь с профессорами и доцентами пединститута и пообщайтесь с культурой. Культура – она такая. А доценты и профессора, которые защитили диссертации, знают себе цену, умеют делать дело, они на «ты» говорят, они простые люди, им не надо из себя что-то строить, не надо компенсировать это.
Директор тогда вызвала и сказала: «Надо же, всю правду сказал!» Я говорю: «А вы привыкли, что вам все врут?» В результате это была первая и единственная, наверное, заметка (все заметки о преподавателях школы вешали в самой школе, чтобы все видели, что у нас такой препод: этот сочиняет, этот на таком-то концерте был, этот на конкурсе, статьи такие бронзо-памятнико-мраморо-подобные – тем, кто окончил школу жизни и получит мраморный диплом после жизни), которую не решились на обозрение детей и родителей вывешивать. Что, оказывается, нормальный препод может и выпить после работы, после концерта.
У нас был случай! Был классный школьный ансамбль Дмитрия Геннадиевича Тулякова, школьный ансамбль. В то время как по программе две вещи полагается, он делал концерт с детьми на час двадцать. Ради него оставались дети, которые закончили в школу ходить, в ансамбле. Он с ними занимался 4–5 дней в неделю, они ходили сами. Как-то был концерт, были старшеклассники во взрослом ансамбле. Как вы думаете, где в городе может базироваться самый лучший инструментальный ансамбль, где непрофессионалы, но играют так, что я не отличу от профессионального, насколько он это организовывает? На хлебозаводе! Площадка для ансамбля там, потому что главный инженер хлебозавода тоже ходит в этот ансамбль. Это хлебозавод напротив горбольницы, Коломнахлебпром. Вот вам вся культура!.. Он до сих пор существует.
Мы собирались в «Доме Озерова». Когда был концерт, потом стол накрывают, вино, закусочка – обсудить концерт, чуть-чуть расслабиться, между собой неформально поговорить, что было плохо, что хорошо, в нормальной комнатной обстановке. Поздравить тех, кто молодцы, готовились, делали. Это всегда было. Но меняются административные дела верхние, потом подтягивают нижние, и все начинают быть культурными. Было шоком, когда приезжает ансамбль, и им после концерта говорят: «Выметайтесь. Вы здесь не посидите, у нас культурное учреждение, вы нам ковры можете вином запачкать». Молодец Дмитрий Геннадиевич! На рояль – пакеты, на пакеты – газеты, на газету – селёдку и пошёл резать: не хотите – будем за роялем. Это со стороны тех, кто в «Доме Озерова» тогда руководил, была демонстративная культура. Потому что буквально в то же время я играл с ансамблем из района (года не прошло после этого), пригласил Мосэнерго, справлял свой юбилей. Мосэнерго богатая компания, так им накрыли столы прямо поверх этих ковров, фуршет, они там ходили и всё, что угодно. За деньги можно всё! Вы нам заплатите – и мы потом сами найдём, как ковры отчистить. Это напускное, это не культура, это ложь, мерзость.
«Это некрашеные дома, соломенные крыши!..»
Когда было больше правды?
Правды нет нигде, правда только на небе существует, ибо сказано в одном из псалмов: и правда спустится с небес, и истина поднимется с земли. Но земля – это там, где истина только формируется. Когда было больше правды? Мы вернёмся в те времена коммунальные, советские. 1960–1970-е годы, талоны в Иркутске, в конце 1970-х – Астрахань, Вологда, в 1980-е, в конце, докатилось сюда, до Москвы, и не стало Союза, всё взорвалось. Правда ли было, что нам каждый год кричали о перевыполнении продовольственной программы и полных закромах родины? Когда перестали кричать, тогда какое-то время было правдой. Не было правдой в 1990-е, было больше, но всё равно пытались мухлевать. Например, в Московской области была зарплата трёхкомпонентная у учителей. По телевизору передают: у нас повышают в два раза повышают зарплату у учителей. Смотришь – повысили один компонент в два раза, а все остальные остались, то есть процентов на 20.
Правды не будет никогда, и врут все, тем более политики. Нет, ну, конечно, кроме наших, понятно! Когда существует несколько течений, пускай они плохо существовали, между собой дрались за власть вместо того чтобы договариваться, тогда труднее соврать. Потому что за тобой следит оппонент, он пальцем тыркнет, размажет так, что публика от тебя отвернётся, твой электорат. Когда оппонента уже нет, врать можно сколько угодно. Поэтому врали всегда, но были периоды, когда вынуждено становилось лучше. Читаешь исследования: в Московской области как мы хорошо жили. Это отдельная тема, как мы хорошо жили. Я ездил в Москву за продуктами в 16 лет, на двух факультетах учился, дворником работал. Здесь ещё не было талонов, но было шаром покати. Знал, где отстоять два часа за хорошей колбасой, хорошим сыром, за кофе. В Москве это было.
Вы по своему желанию это делали, или семья отправляла как гонца?
Нет, я сам. У нас никто не ездил, но кто-то же должен, кто-то хочет нормально поесть. Учиться на двух факультетах и работать дворником… кому-то хочется поесть вкусно, а не синюю курицу из одних костей, которой нужно ещё на газовой плите обжигать от перьев!
Такое делали?
Конечно. Здесь другого не было! Но у нас было сливочное масло. Я читаю этнографические исследования. Вообще это религиоведческие исследования, но нельзя было религиоведением заниматься. Нанайцы в Амурской области, где Благовещенск и выше; там говорит шаман, что духи каждый своё любят, вот этот любит сливочное масло. А где его достать там? Хорошо жили…
Мы многого не знали. В сталинские времена колхозы, трудодни. Смешно смотреть кинофильм, хотя хорошо поставлен (агитационная работа должна быть на хорошем уровне), где трактористы бьют себя в грудь, у кого сколько трудодней, и этим гордятся, но никто, сколько заработал. А девушка любит именно того, у кого больше трудодней. Если абстрагироваться от того, что хорошо играют, хорошие песни, что весело, заводно, и подумать: это же ложь. Или «Волга-Волга»: замечательный фильм, но вы хотите сказать, что в сталинское время все массово из маленького города сорвались с работы и поехали в Москву просто так?! Не смешите мои коленки!
Вы из сегодняшнего дня так рассуждаете?
В то время, естественно, было по-другому. Я ездил за Рязань, были походы на байдарке по реке Пре, это рязанская Мещёра, я тогда удивлялся, я был молодой, это 80-е, я понимаю, что тушёнку достать – это ладно. А с какого перепуга вы взяли хлеб и сливочное масло? Я это понял там: это было не по талонам, а по деревенским спискам. Это за Рязанью, часа четыре было езды, от Спас-Клепиков ниже деревеньки, между Деулино и Брыкиным Бором, деревеньки к Оке. Это некрашеные дома, соломенные крыши!.. Журавли те самые, колодцы – это экзотика, но соломенные крыши… Люди поехали давать телеграмму в ближайшую деревню и пропали, все стали с ума сходить, сотовых не было. Они приехали через несколько часов. Оказалось, что им надо ехать в другую деревню: на семь деревень одна почта. Дороги такие, что детей у меня нет до сих пор! Нужно было сначала заводить детей, а потом ехать; не знал!
На семь деревень одна почта, куда привозили в советские времена газеты подшивками раз в две недели, не каждый день. Одна фельдшер – и та на пенсии.
Но природа там была шикарной! Попадёшь в грибной сезон, пойдёшь за дерево – с грибами вернёшься: сначала грибы соберёшь, потом все дела сделаешь. Прежде чем палатки поставить, грибы собирать, безусловно. Одно время грибов так наелись – потом года три не хотелось. В деревнях не собирали опят, они не считались грибами. Грибы только белые, в лучшем случае – подберёзовики, подосиновики. Это природные вещи. Речка красная торфяная, полностью песчаная, извилистая, там догребаешь, разворачиваешься, как в танке, гребёшь назад, потом будет заповедник, нельзя даже причаливать. Песчаные пляжи, река чистейшая, из неё воду брали пить, она такая мягкая была, красноватого оттенка, но это была не химия, просто болота вокруг, поэтому торфяная.
Я в 90-е годы случайно попадаю по телевизору на передачу, где по Пре возили иностранцев-инвалидов. Какая-то была программа, чтобы не сидели дома, посмотрели свет. Скорее всего, это их программа, они оплачивали, наши устроили. Почему я сделал акцент на природе: на каком-то пруду все пошли рыбу ловить, клевало там невообразимо, один пологий берег, другой такой, он подмывался, корни красиво-красиво спускаются! Неимоверная красота!
Можно сказать, что природа вас поддерживает, вдохновляет?
Нет, ничего не вдохновляет. Но меня радует всё, что хорошо. Кроме того, когда что-то плохое хорошо делается.
Были места, пляжики, где люди обосновались, закапывали, не было грязи, которая сейчас на Голубых озёрах, банки все прокаливали, яма была всегда, все поддерживали после себя, оставляли всё, как нужно. Конечно, туалетов не было, места не были обихожены, это были природные места с минимумом: лавочку кто-то сделал, пеньки, место для костра кто-то огородил, обязательно яма, прокаленные банки за два-три года разлагаются. Туристы сами по себе едут дикарями, для них никто ничего не делал. Для иностранцев-инвалидов надо сделать максимально комфортно и качественно. И в Брыкином Бору (я место узнал, там заповедник) у иностранки, которая на коляске сидит, берут интервью. Что на вас больше всего произвело впечатление? Было то, что я не ожидал. Она сказала два слова и просто заржала. Там обустроили места, как наши считают, шикарно для иностранцев. Она сказала два слова: «русские туалеты» – и пошла ржать! Для неё это было ниже чем.
Я к чему: всё познаётся в сравнении. Я увидел, как жили москвичи (ездил за продуктами), и я видел, как жили за Рязанью в то время. «Русские туалеты» были величайшим достижением, мягко говоря.
Чтобы понимать разницу. Коломна что-то из себя представляла, но всегда интереснее смотреть по сторонам, тогда лучше понимаешь, что из себя представляет это место. Просто когда рассказываешь, непонятно, а в сравнении с тем, что есть другое, это становится интересно.
«Обговорено на высочайшем уровне – с 9-летнем ребёнком»
Давайте вернёмся к вашим школьным временам.
Обычная советская школа, сначала 8-я, потом 14-я. 8-я три года – это младшие классы. Первая учительница, по-моему, Хренова Валентина Дмитриевна. Хорошее ощущение. Не могу сказать, что конкретные воспоминания – не тот возраст. Потом 14-я школа, мы переехали тогда на Шилова, здесь была интересная штука. Сравню с современностью. У Макаренко есть такое понятие: образовательное пространство – то есть то пространство, в котором ученику хочется учиться, более менее (понятно, что люди нормальные хотят больше зарабатывать и меньше работать, все хотят больше гулять, чем больше учиться, это естественно), где учителю хочется преподавать, работать, искать, как преподавать, самому развивать себя в профессии. Вспомним школы, куда можно было спокойно проходить родителям, детям. И образовательное пространство нынешнее: камеры, охрана, турникеты, директор на три-четыре школы, его никто никогда не найдёт. Это же не образовательное пространство, это другое напоминает, и соответственно система образования гораздо… другая. Тогда было всё проще.
Почему я это сказал. Вся семья переезжает тогда на Шилова, дом 1. Там рядом 14-я школа, в 8-ю уже ходить далеко. Я говорю: «Мама, хочу в 14-ю школу!» Мама говорит: «Директор отказал, хочешь – сам иди договаривайся! Ребёнку 9 лет! Дети непосредственные, простые, сейчас бы такое ни у кого не прокатило. Сам пошёл к директору! Что там, какая-то вахтёрша-уборщица не пропустит? карточку прикладывать? фейсконтроль? Зашёл в школу, к директору: так и так, переехали, хочу здесь учиться. А школа была переполнена действительно. Он на меня смотрит круглыми глазами и говорит: «Если только в 4 “А”». Я: «А у меня друг в 4 “В”». – «Нет, “В” совсем переполнен». – «Ну, тогда хотя бы в “А”». Сейчас это невозможно представить!
Тогда, мне кажется, тоже не каждый ребёнок так пошёл бы.
Дети непосредственные! Я не думал хлопотать. Мне сказали: если хочешь, иди сам. У людей были другие отношения.
Главное, вы достигли цели!
Абсолютно. Потом мать пошла документы относить, но всё было обговорено на самом высочайшем уровне – с 9-летнем ребёнком. Смешно, но тогда были такие вещи.
Ваше желание заключалось только в том, чтобы поближе в школу ходить?
Конечно. Зачем за несколько остановок на улицу Дзержинского тащиться от площади Советской? Больно надо!
Крепкой связи с одноклассниками не было?
Не была крепкой, переживаний не было. Мы жили в парадигме коллективизма, а я был не коллективист. Мне повезло очень: Юшина Елена Александровна – классный руководитель, учитель истории, кстати, она меня заразила историей – через сколько лет я поступал на истфак. В те времена требовался сбор макулатуры, пионерские собрания и прочее – мутота. Тогда ещё всех обязывали записаться в библиотеку. А у отца была шикарная библиотека, книги сдавали по 20 килограмм на Черняховского, на Выхино тоже, так что я выгреб всю макулатуру. Я в детстве перечитал всё – Джека Лондона, Буссенара, Купера. Позднее, учась в школе и училище, – Голсуорси, Моэм, это подписки были целые, простыни. Так что какая библиотека? Нет, все должны, все обязаны. У неё другая была позиция (тогда это не понимаешь, потом оцениваешь): человек занимается делом, он не шляется по улице, его не надо отвлекать всякими вещами от криминальных компаний. Классный руководитель давал мне какое-то время подготовиться, отдохнуть, в этом не участвовать. Но! Дети – это жестокие существа, они милые по отношению к взрослым, это закон выживаемости: котёнок такой милый, но другого от миски всё равно отгонит. Внутривидовая конкуренция самая жестокая. В классе это очень не нравилось. Я был изгоем. Это естественно, это нормально, потому что все ходят на стрельбища и прочее, пионерские дела, а мне разрешали не ходить. Это нормальный элемент зависти: почему ты не как все? Все должны быть как все, смотреть в одну сторону и думать только одинаково. Поэтому о самом классе у меня нет особых воспоминаний. Но есть воспоминания классного руководителя, директора о том, какая была та советская система. Правда, я попал в училище на период гласности, это было чуть полегче, но всё равно. Смешное было в системе. В любой системе есть свои дыры. Например, в пионеры все вступали – все радостные ходили. А чего радоваться-то? В комсомол надо было сдавать экзамены, ходить в наш «белый дом», там принимали экзамены, должны были корёжить из себя очень умных, и люди по два-четыре раза сдавали. Это был 8-й класс, нынешний 9-й. У меня в это время подготовка к училищу с факультативом. Тратить целый месяц на подготовку нереально, и я не вступаю в комсомол. Я и не стремился. Но все должны всё равно. Но плюнули: в училище станешь. В училище уже все комсомольцы. Ко мне подходят – платить взнос в комсомол, а я не комсомолец. Заканчиваю четвёртый курс (был 1991 год, незадолго до развала Союза), пишем анкету: являетесь ли членом ВЛКСМ, КПСС. Я пишу: «не член». Мне говорят: «Харе портить нам бланки!» Я говорю: «Я правда не комсомолец». – «Такого быть не может!» Завуч по воспитательным делам подняла документы, побледнела: «Ты никому не рассказывай, что закончил училище не комсомольцем!» Преподы были сильными, не было выхолощенности. В сталинские времена, кстати, была такая же выхолощенность: главное – соблюсти внешние приличия, как историк скажу.
Это был период, когда требовалось дело.
Это о преподавателях школьных или училища?
И тех, и других. Сейчас в школах просто зачитывают материал, а если что-то непонятно – ищите в интернете. Да извернуться как угодно, чтоб ты понял – это я воспринял как методику, что преподавать нужно так, а не просто зачитывать. Дистанционное образование – это ерунда. Есть штука, которая дистанционно хорошо идёт в образовательном процессе – если идёт лекция на публику, то есть не сидит препод в пустом кабинете и в пустой экран читает. Если он читает на аудиторию, в аудитории разные люди с разным мышлением, он объясняет на куче примеров, логические приводит, образные примеры. Если вы смотрите такую лекцию, которую транслируют как открытые публичные лекции, тогда вы попадаете в сегмент публики, которой он объясняет. Если он не видит глаза публики, он не может понять по глазам, поняли или нет, поэтому дистанционное образование – это страшная штука.
«Было сочетание разума и чувства»
Тогда был тот период, когда нужны были хорошие учителя. Люди устали от страха репрессий, даже на верхах. Нам говорят по истории: всё поколение, я и старше, заражено тем, что немцы внезапно напали, из-за этого были огромные потери. Если мы почитаем начштаба Врангеля, он пишет о результатах 1937–1938 годов для армии, когда были репрессированы все руководящие военными округами, три четверти комдивов, командиров дивизий и половина комполков. Весь высший состав. А солдаты без этого – это пушечное мясо, танки без этого – это металлом. Армия была намного больше германской. Смешно фильмы наши смотреть: немецко-фашистские полчища и орды – нет, она была намного больше, советская. Советская армия не становится небоеспособной, но теперь все победы и поражения будут даваться большой кровью – спецов нет, они были уничтожены. Может быть, вот этот страх, что нет спецов и мы оказались не поймёшь в чём в результате…
Могут сказать, что были заводы, стройки… Да, заводы покупались американские, инженеры приглашались американские. Свои были несогласные – их высылали либо сажали, нужны только послушные. После войны пошло тяжёлое станкостроение. Да, ребята, на территории только Восточной Германии было 3800 заводов, станков 1 млн 200 тысяч, многие из них доработали до путинского времени включительно. Наши штамповали по образцу. Оно как бы было, но не с той стороны, что это своё. Космос кто первый – американцы или советские? Наработки были немецкие, первые ракеты были немецкие, они не успели просто доделать эти ФАУ, которые летали в Лондон, ракет не было ни у кого. Ядерное оружие американцы сделали? Советское ядерное оружие делали около 150 специалистов с восточной территории Германии. Американцы оказались первыми по странной причине: гитлеровская Германия объявила охоту за евреями, куча народа уехала за границу. Оппенгеймер и его команда, которая разрабатывала ядерное оружие, оказались в Америке. Не американцы, не русские, гордиться нечем, всё оказалось немецкими разработками.
Давайте вернёмся к уровню образования.
Здесь впервые задумалось по-настоящему, а не в качестве деклараций, как у нас всё хорошо. Это был период, когда надо делать, чтобы оно было.
Вы довольны своим образованием?
Было бы раньше, было бы хуже. Было бы позже, было бы намного хуже. Учителя были реально хорошие. Тогда город развивался. После войны было училище, пединститут с какого-то заочного рабочего факультета делался потихоньку. Приглашали спецов из Рязани, сильных, в училище. В пединститут тоже, там есть учительские дома специально построенные, две пятиэтажки, для приезжих, чтобы были хорошие кадры, и москвичи и рязанцы. То же самое в училище было. Людей привлекали. Кто-то просто ездил. Мой учитель по специальности, по фортепьяно, три дня в неделю ездил, ему хотелось дома жить. С этим невероятно повезло, был сильнейший учитель. С детьми – это другая работа, руки, уши ставить. С музыкой – это уже работа училищная. Он как-то увидел, что я читаю что-то про Демокрита. Вы можете себе представить ряд уроков по специальности, когда нужно играть, играть, играть… дискуссии о приоритете – не в музыке, а вообще, разума или чувства. Сейчас я с позиции религиоведения разложу, а тогда я был слишком молод, а он религиоведения, конечно, не знал, поэтому мы были вынуждены спорить на том, что имеем. Кстати, это не сразу, это не видно, а через лет 5–7 это начинает сказываться на игре – ты начинаешь думать по-другому. Это великолепный ход, это редкость! Сейчас этим не занимаются: положено делать это. Кем положено, куда, не знаю. К нему ходило всё училище – к Всеволоду Валерьевичу Воскресенскому, к сожалению, ныне покойному. Он научил, как пользоваться физиологией руки, как часто ошибаются редакторы, когда пишут пальцы аппликатуру, не всему нужно придерживаться. Он величайший интуитивист. Он объяснял, как нужно сыграть Второй концерт Рахманинова: здесь тихо, здесь громче, здесь ещё громче, вот вся логика движения мелодии, фактуры, аккомпанемента… Объяснил – показал, сыграл. «Всё понятно?» я говорю: «Кроме одного: объяснили понятно, а сыграли наоборот». – «Так лучше. Интуитивно получилось, значит, так лучше». Было сочетание разума и чувства, как прислушиваться к тому и другому, делать баланс.
Много таких вещей, которых сейчас никто не знает. Мне училищные преподы говорили, что после 40 лет нельзя работать концертмейстером – спина болит. Когда сидят, особенно на хоре, на, я их называю, табуретках для гуталина, где неестественно прямая спина, постоянное статическое напряжение каждый день по несколько часов. С детьми – и то пытаешься, чтобы сбрасывалось напряжение. Он всегда сидел только на стуле. Он играл концерты, ему было уже за 60, он сюда приезжал играть концерты полуторачасовые, Листа, Шопена, сложнейшие вещи, их учить нужно часами. Он всегда ставил обычный стул и играл. Спина опирается, есть движение, и это напряжение не есть постоянное и статичное. Он играл на седьмом десятке без болей в спине, когда сейчас в 40 лет с болями в спине играют. Это серьёзная школа. Я не знаю, кто придумал, что нужно обязательно играть без спинки, что это хорошо и красиво. Если играть долго, я всегда ставил нормальный стул. «Дом Озерова» на меня ругался: «Зачем ты ставишь? Это не положено и неэстетично!» Я говорю: «Тогда играйте сами». Если я играл целый концерт, я ставил нормальный стул, что я буду себя гробить?! Людям нужно, чтобы я сидел как фараон, или чтобы то, что сыграно, было НЕЧТО? Насчёт учителей, которые были в этом городе, которых приглашал этот город в эти времена – наверное, это уже никогда не повторится. Но это было как раз НЕЧТО. Были серьёзные теоретики музыкального училища. Наталья Михайловна Кочеткова, царство ей небесное, она из Рязани, где здесь было учиться, у кого? Нужно было собрать здесь других, чтобы они уже могли как-то обучать местных Это наше своё родное, главное, что наше? Нет, главное, чтобы хорошо было сделано.
В эти времена концерты были для публики, а не для галочки. Требовались специалисты, которые будут работать, а не с западных заводов приглашать. Требовалось создание настоящих своих специалистов. Я заметил очень интересную вещь: если было в чём-то хорошо, об этом молчали. Если было в чём-то плохо… Например, было очень неплохое образование в этот советских период. Кроме одного – исторического и обществоведения: надо же знать о формах общества, способах управления, а у нас говорили, что мы живём в самой лучшей стране, и больше ничего никто не должен знать. В результате в 1990-е не поймёшь чего и в результате всё дальнейшее не поймёшь чего. Это мы говорим про школу, 80-е и даже 70-е, потому что 1971-й – год моего рождения, про 60-е я сказать не могу. В 80-е годы, вспоминая телевизор, особо не упоминалось наше образование – хорошее оно, достатки, недостатки, потому что было нормально. Медицина тоже была – и тоже не упоминалась. Было плохо с продуктами – и всё время орали о продовольственной программе и полных закромах родины. Поэтому если о чём-то у нас стали говорить, что это хорошо и к лучшему – это значит, не так, и скоро вообще будет никак. Это уже традиция! Если нормально, об этом нет смысла говорить. Если плохо, то нужно говорить, как это хорошо, вы просто не понимаете, и всё будет к лучшему. Сейчас слишком много стали говорить об образовании и медицине. Слишком много. И не особо о продовольственной программе…