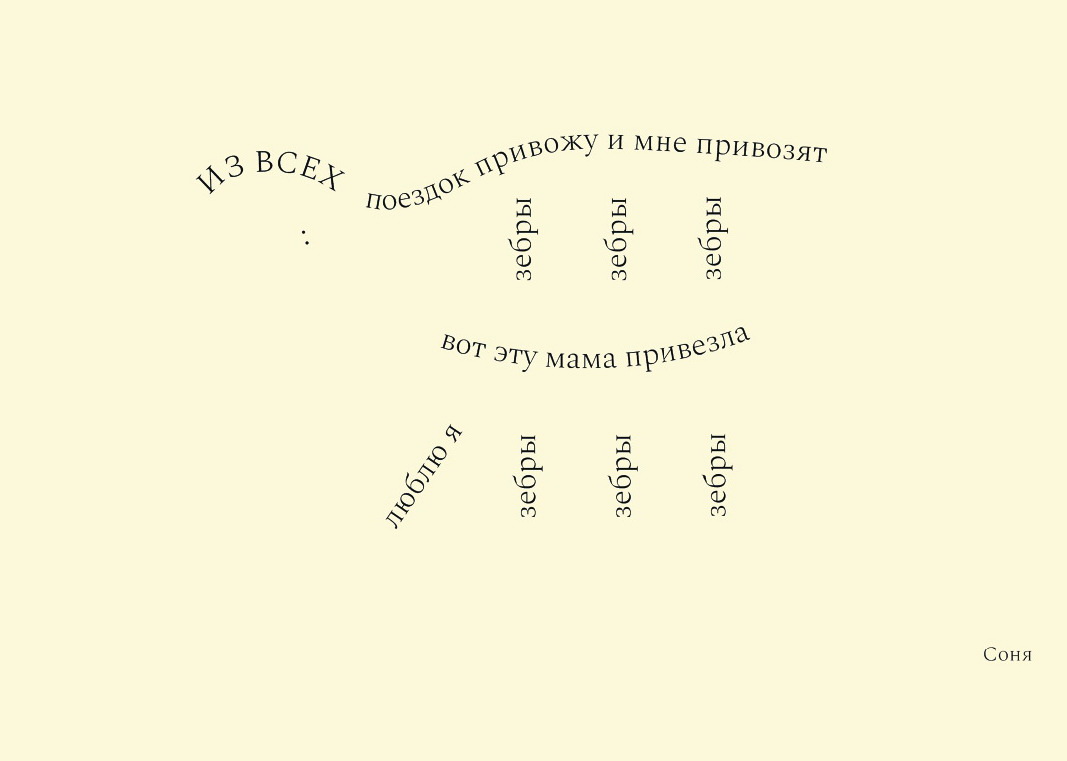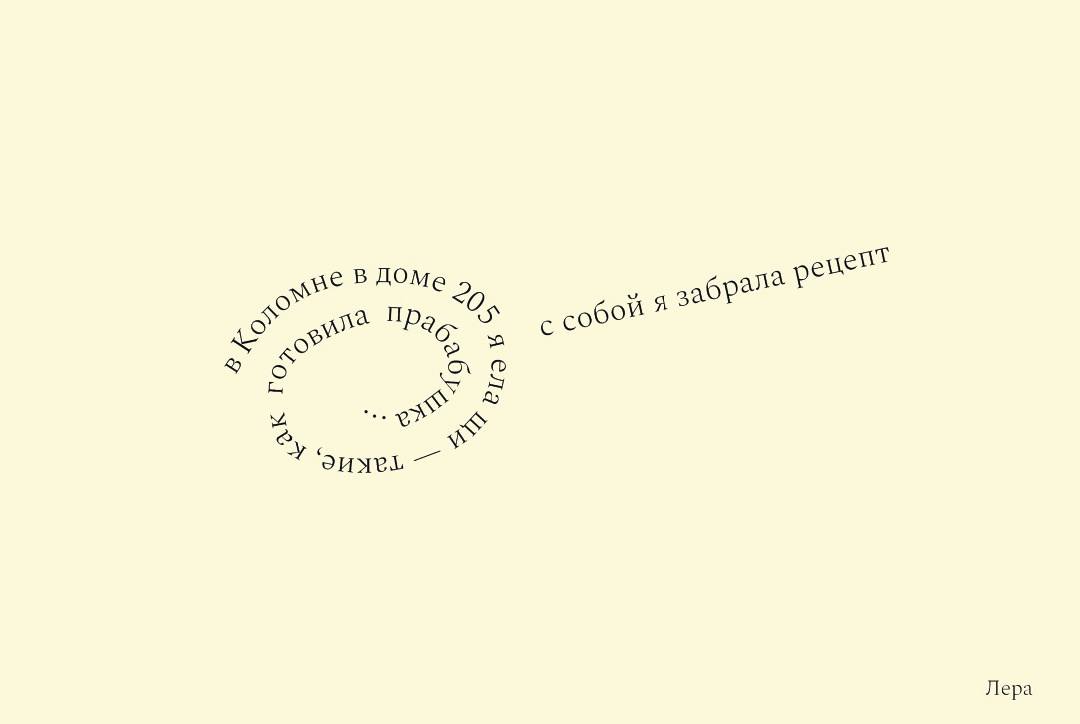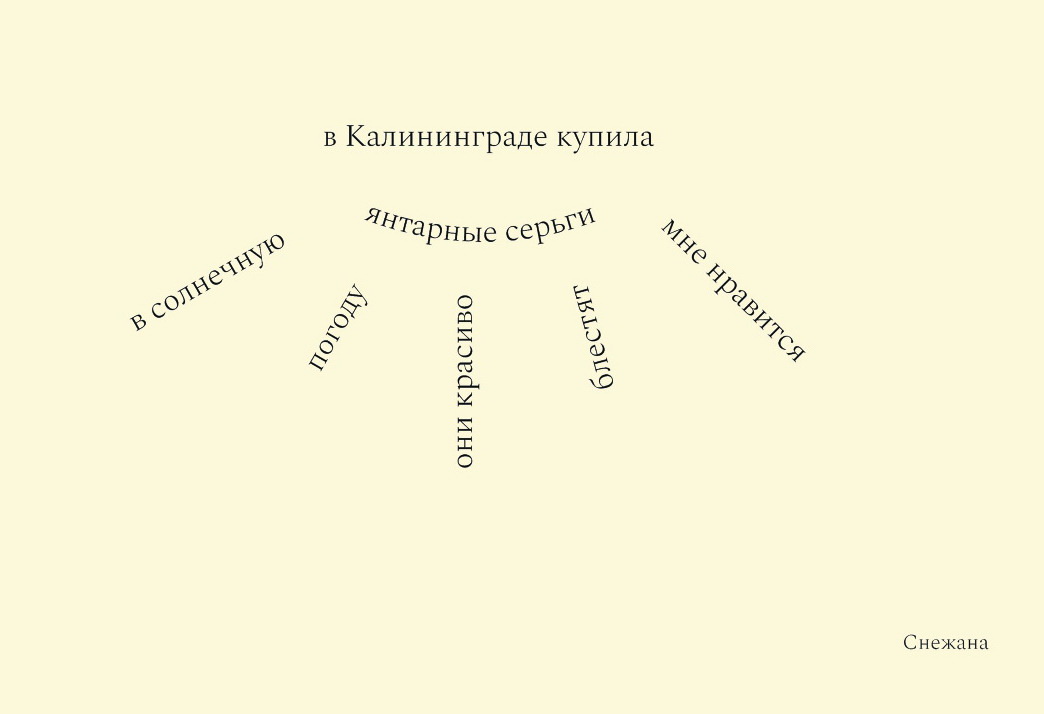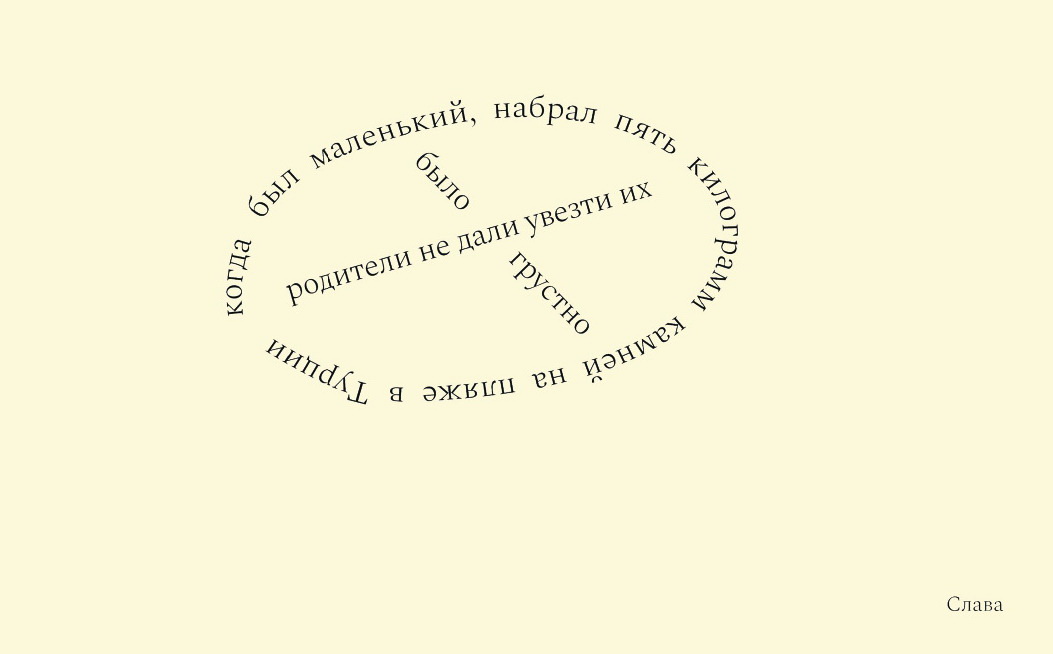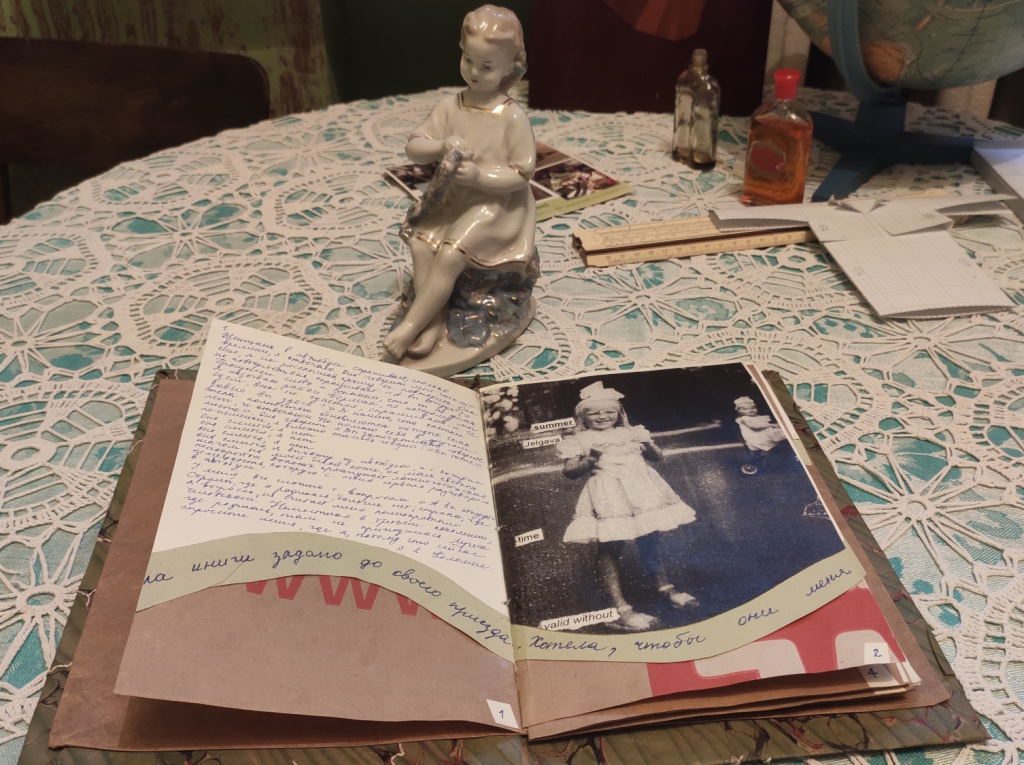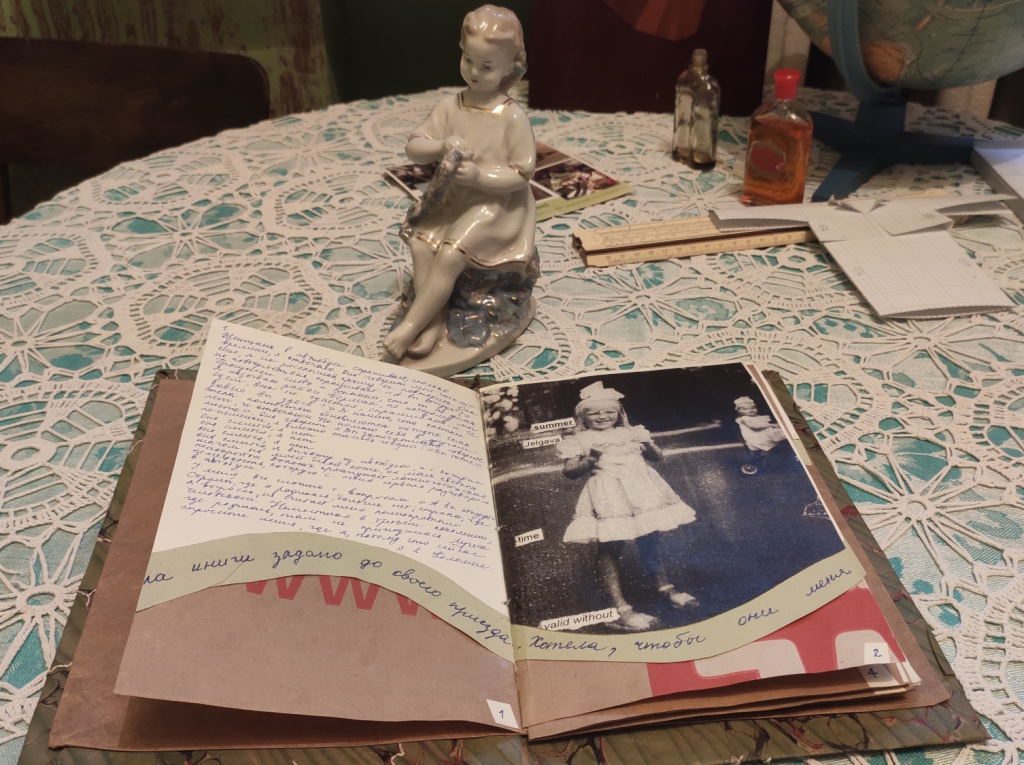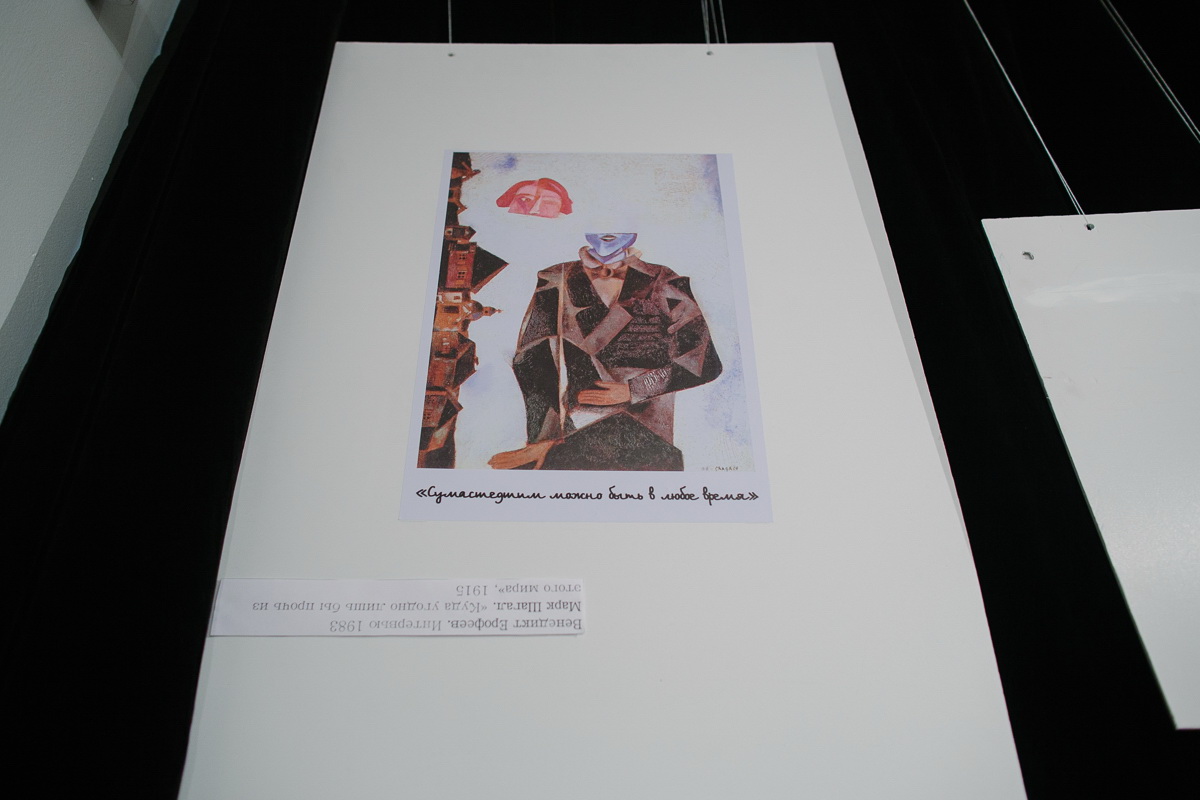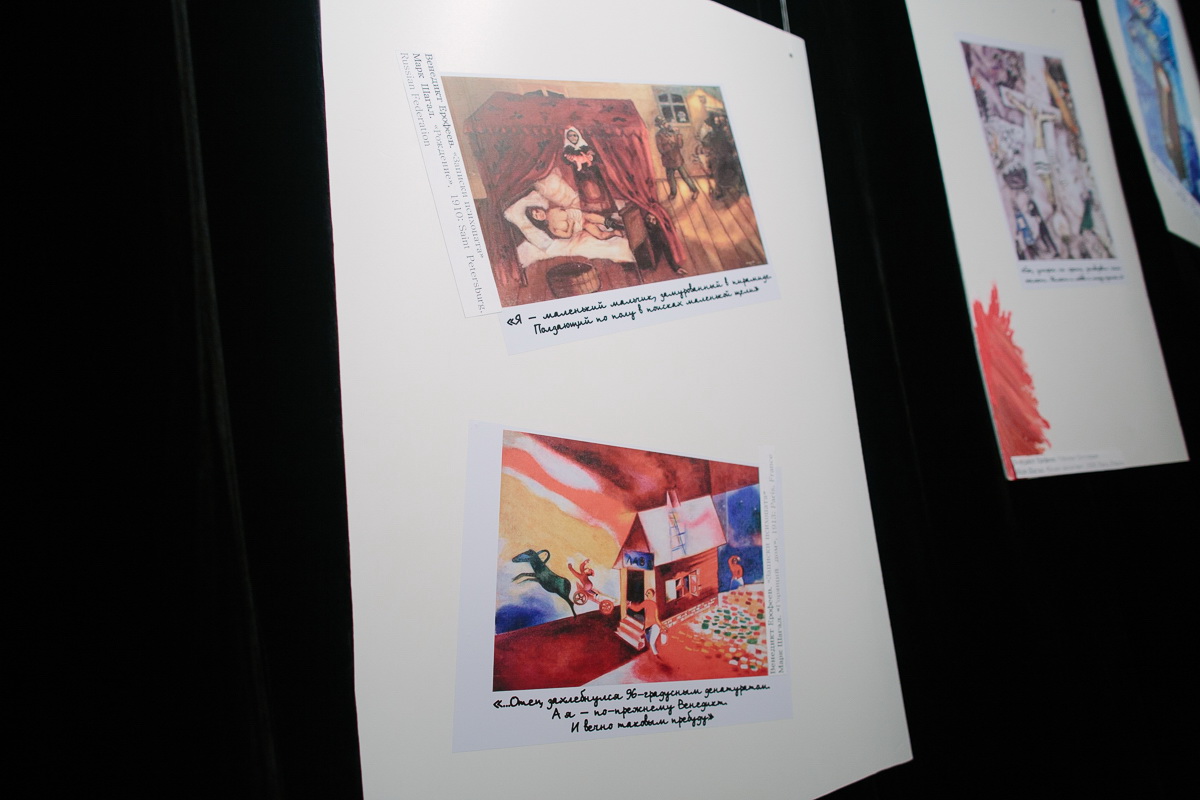Денис Осокин: «Свободнее художника в качестве человека быть нельзя»

«Я не был ни сорняком, ни домашним ребёнком. Я и путешествовал по болотам – и сидел дома с книжками и пластинками. Сначала один, потом с младшей сестрицей. В своих любимых болотах четыре раза тонул. Тогда же научился почитать уток главными личными божествами – их всегда было так много вокруг, и я верил, что это они меня спасали. И продолжают спасать. На воде – утки, на земле – рябины, в небе – Полярная звезда, всюду – ветер. Так выглядит моя вера».
Денис Осокин снова стал резидентом Арткоммуналки – в марте 2023 года (первая резиденция состоялась ровно 10 лет назад – в 2013-м). О том, что снова привело его в Коломну, что «зацепило» здесь, о новом проекте, о дорогах искусства – наш разговор с известным писателем, автором прекрасных «Овсянок».

– Денис, я так понимаю, что в Коломну вы приехали с бессмертным Аистом Сергеевым?
– В этот раз ещё его отец приехал.
– Вот с отцом я как раз не очень поняла. Ведь отец-то не бессмертный. И отец-то умер…
– Ну, это же не помеха, чтобы ходить дорогами искусства. Потому что авторы родились внутри меня, это мои герои-авторы, я волен обходиться с их судьбами как необходимо – продлевать, отменять, менять, прибавлять, обретать любым способом… Просто 10 лет назад Аист приезжал в Коломну один и написал книгу «Снежные подорожники», и когда я размышлял, с чем податься на нынешний конкурс, подумал: пусть снова приедет Аист, пусть ещё и Веса Сергеев приедет. А я – такой их медиум-представитель (хотя я и с улыбкой это говорю). И два раза – уже традиция! Пусть Коломна становится одним из центров рождения мерянской литературы, она этого заслуживает более чем! Я ещё и от имени Дениса Осокина начал писать здесь одну вещь и надеюсь, продолжу.
– Давайте всё-таки разграничим эти рамки. Вот Аист Сергеев. Он кто? Он внутри вас живёт? Он – какой-то вы другой? Скажем, Денис Осокин русский, вы подчёркивали, что вы русский во многих поколениях. А это вы – мерянский писатель. Или как?
– Иногда я пишу от имени героев-авторов. И в некоторых моих произведениях герой-рассказчик очень ярко выражен. У него есть другое имя, отличное от моего, т.е. это не просто лирическое «я», а герой-рассказчик как герой-автор ещё и себя по имени называет, объясняет, почему у него такое имя, у него своя биография, всё очень сильно своё. У меня таких героев-авторов совсем немного. И Аист Сергеев, автор повести «Овсянки», родился во время моей работы над этой повестью. Я так назвал главного героя, от имени которого написана повесть, который нашёл в себе силы и способности поведать нам эту историю, поделиться этой суммой знаний и чувств.
– Но всё-таки он у вас родился. В традиции русской литературы это нормально, что от лица какого-то персонажа ведётся рассказ, и псевдоним – это тоже традиция. Но у вас какой-то интересный симбиоз автора-персонажа. И хочется понять, что это для вас, какую часть вас занимает.
– Это всё моя литература.
– Литературная игра?
– Это не мой рабочий термин. Это не игра, это всё всерьёз. И это не мистификация, не мистика, не расщепление личности (надеюсь: я дорожу здоровьем – и своим, и читательским). Просто в некоторых книжках герой настолько яркий (как автор повести «Овсянки»), что я пишу, что она им создана. Это моя литература. Это не какая-то специальная часть меня. Но если герой-автор имеет даже имя, я себя не идентифицирую с ним абсолютно. Я люблю его, симпатизирую, разделяю мироощущение во многом, но не во всём, любуюсь, сочувствую. Это мне в помощь как писателю – инструментарий, помогающий мне работать. Плюс это чистая поэзия. Плюс я очень люблю литературу и хочу, чтобы литературы было много, писателей было много, пусть их будет больше, чем один я даже в границах моей литературы!.. Почему нет? Я вот, по сути, создал мерянскую литературу, без специально поставленной цели – одного прозаика и одного поэта – литературу несуществующего народа, язык которого утрачен. Но меря внутри нас, и пишет она по-русски и помнит многое своё, а на Тот Свет мне помогает заглядывать бессмертие моего Аиста. Я и литературу окских финнов мечтаю создать – мещерскую и муромскую. Достаточно показать пример, написав что-нибудь важное, одно-другое-третье, а дальше пусть пишут другие, если когда-нибудь захотят…


«Это не игра, это какая-то любовь…»
– Писатель узнаётся по стилю. Или вы в таких случаях всё же где-то…
– Нет-нет-нет! И язык, естественно, мой, а я и не пытаюсь никого мистифицировать, я хочу, чтобы люди знали, что это моя литература, я же люблю свои книжки, горжусь ими и хочу, чтобы люди их читали. Это складывается естественным путём, таков ход вещей: иногда при моём письме герой-автор выходит в титульный лист.
Я написал «Снежные подорожники» в Коломне 10 лет назад. Т.е. Аист у меня, получается, вышел из воды (после «Овсянок»), дошёл сюда днами рек или как-то иначе, пришёл сюда и решил пожить здесь и попробовать разобраться, почему Коломна называется так, разобраться в тайне её имени (об этом «Снежные подорожники»). А Веса Сергеев пишет стихи. И когда я в «Овсянках» написал 10 стихотворений отца Аиста и включил их в повесть, мне ужасно стало жаль, что литературы Весы так мало, просто невыносимо! А я так Весу Сергеева люблю! И я ещё тогда подумал, что обязательно нужно творчество Весы Сергеева продолжать, и его стихи и дальше находить, обретать, пусть он пишет!.. В физической реальности это абсурдно и нелогично, а в реальности искусства это всё очень даже запросто. Художественная реальность – она единственная, где можно – и только здесь, будучи художником – быть абсолютно свободным человеком. Свободнее художника в качестве человека быть нельзя. И тогда даже смерть не помеха. Аист вот в конце «Овсянок» тоже из Мира Живых ушёл, но теперь он вездесущий, на дне где-то гуляет, бывает где хочет, знает то, чего не знаем мы, и нам не известны все его пути.
Я не стремлюсь полностью на все вопросы ответить, нет ни цели такой, ни возможности. Меня заботит, чтобы писались новые книжки, хотя бы понемножку. И в этот раз я решил, что я приведу в Коломну Аиста вместе с Весой, пусть они тут попробуют что-то написать ещё. Я ничего не изобретаю, я, получается, иду немножко дальше писателя, у которого произведение написано от имени героя, но на обложке стоит его собственное имя. У меня есть ещё Валентин Кислицын (я под этим именем ВКонтакте), который живёт на правом высоком берегу Волги, напротив Казани, в райцентре Верхний Услон, пишет весёлые, жизнерадостные стихи о лете, о Верхнем Услоне и его окрестностях, включая Казань, а я ему с низкой стороны, с левобережной Казани очень завидую!… И буквально ещё парочка героев-авторов есть, не постоянных, и новые могут родиться.
– Для вас как для писателя Дениса Осокина что даёт такая возможность? Это какой-то взгляд со стороны на то же, на что смотрите вы, или?..
– Всё это возникает внутри меня естественно, я не просчитываю эти вещи. Потом уже, вдогонку, я это осмысливаю – во время интервью, например, во время выступлений.
– Вот мне и интересно ваше осмысление.
– Это бывает довольно-таки редко, потому что подавляющее большинство моих произведений подписаны Денисом Осокиным. А когда появляются Аист, Веса, Кислицын – я просто расширяю количество писателей в Мире. Мне это нравится, я получаю от этого удовольствие. Плюс личным бонусом я сильнее дистанцируюсь и чувствую себя свободнее, я могу вкладывать герою-автору не совсем свои мысли. Когда, например, мысль для меня спорная, но мне хочется её высказать и на неё посмотреть, я могу высказать её в книге, написанной другим человеком. Но у меня при этом нет конфликтов, нет ничего противоречивого. Ни в одном произведении, написанном через героя-автора, нет ничего, против чего я бы лично возражал резко. Это не игра, это какая-то любовь… да, ближе к слову любовь…
– Любовь к чему? Литературе, человеку?..
– Да, к литературе, к жизни, к человеку – пусть всего этого будет больше! Темы поднимаются самые разные, даже небезопасные: пограничье миров, жизни и смерти – так я и мои герои часто ходим по обе стороны, и они в том числе и оттуда способны что-то сообщать. Это определённая техника безопасности для меня как для личности, это такое отстранение, защищающее меня в том числе. Моя органика и моя защита. Мне нравится знать, что в Верхнем Услоне – прекрасном районном центре на правом берегу Волги, напротив Казани – живёт Валентин Кислицын, зоолог-беспозвонок по образованию, и я ему со своего левого берега, где Казань, машу, а когда оказываюсь в Верхнем Услоне, думаю, что могу в гости к Кислицыну пойти, только знать бы адрес, но я могу выбрать любой дом!.. Знаю, что в Кологриве всегда живёт Веса Сергеев, даже несмотря на то, что земная жизнь его закончилась в 2001 году. Что в городе Нея Костромской области жил Аист… А теперь его постоянное место жительства – под мостом через Волгу в Кинешме… И я, когда иногда прохожу это место на туристических теплоходах, – опускаю своему Аисту в подарок листочки чистой бумаги. Я мысленно езжу к ним в гости. Если мои герои-авторы писали о каких-то других городах, допустим, тот же Аист Сергеев с овсянками, своим директором и его Танюшей проехались из костромской Неи в нижегородский Горбатов через Костромскую, Ивановскую, Нижегородскую области, – для меня теперь это ещё более заветная заповедная личная траектория. Кстати, не только для меня: «Овсянок» очень чтут прекрасные люди, которые интересуются мерей, дославянскими смыслами нашей земли, помимославянскими её составляющими и сегодня, оживляют мерю, изучают мерянское как русское, создают мерянские сайты, группы. Когда повесть уже была написана и фильм по ней уже пошёл к зрителю, они даже создавали маршруты, которые анонсировали в Интернете, по следам «Овсянок», собирали людей – вот такие получались туристические и сакральные одновременно движения по мерянским «внутренностям», мерянской географии. А поскольку мери официально нет – по сути это всё дороги вглубь самих себя, внутрь современных русских… И я очень-очень рад, что это всё происходит и что я поспособствовал тоже.


«Семечко, которое лежало в мокрой тряпочке моего сердца»
– Интересно, а почему у вас именно такой маршрут родился в «Овсянках»?
– Это всегда связано с конкретикой, с физической реальностью, как ни странно, с логикой вещей. Я очень люблю имена – они для меня пароли – имена рек, городов. Я смотрел на карту и думал, где поселить моих героев, куда привезти овсянок, где всё начнётся? Нея – красивейшее таинственное имя, оно меня потянуло. Явно мерянское, и явно этимология утрачена, значит можно её заново открыть. (В конце повести Аист уже из-под воды со смехом говорит нам, что «нея» по-мерянски означает «овёс», он начал учить там мерянский язык от мерян, ушедших из жизни через воду лет тысячу назад, и ему можно верить.) А рядом Кологрив – он тоже очень мой… Хотя в Нее и в Кологриве я никогда не жил и даже не был физически на момент написания «Овсянок». Я в такую любовь и тягу верю, к такой тяге прислушиваюсь. Потом я понял, что повесть будет от имени другого человека, что нужна какая-то простая русская фамилия – появилась фамилия Сергеев, она меня устраивала и фонетически и по-всякому (в том числе и потому, что я сам Сергеевич). Одновременно я нашёл имя Аист… Я чувствовал, что имя должно начинаться на «А» – этот звук главный позывной Мира Живых для меня. Это всё делается рефлекторно, глубинно, я сам себе этого не проговаривал, не доказывал. В какой-то момент внутри меня возникло слово очень дорогое, красивое – Аист… Птица… Но и больше чем птица… Прекрасное живое существо, даже в чем-то с королевскими чертами… Так не называют людей в знакомых мне культурах… А было бы неплохо, чтобы такое имя было! – пусть оно будет у мери. В общем, в какой-то момент у меня внутренне выстроилось: Аист Сергеев. Так будут звать автора повести об овсянках. Вот с этими паролями-именами – Нея и Аист Сергеев и овсянки – я довольно долго находился наедине, без малейшего знания о будущем, и уже растил будущую повесть из этого. Для меня это было то самое семечко, которое лежало в мокрой тряпочке моего сердца, и из него выглянул росточек. А что дальше – куда сажать, как растить – я ещё не знал. Начало написал сразу (как Аист случайно купил овсянок на Птичьем рынке в Костроме и привёз их домой), а потом стал думать, что будет дальше, с нового утра. Медленно, тихонько повёл Аиста на работу, по дороге обрёл его профессию: мне захотелось создать бумкомбинат в Нее, которого нет в физической реальности (когда читал про Нею, попалась на глаза история, что в 90-е годы на федеральном уровне обсуждалось строительство большого Нейского целлюлозо-бумажного комбината, там края лесные, люди его ждали, надеялись на перемены к лучшему в плане экономики, но не дождались…). Понял постепенно, что Аист фотограф, и довольно долго думал, что будет дальше происходить. Во многом это тайное сотворчество, взаимоотношение человека с Космосом: я и ждал, и искал… Меня всю жизнь очень сильно волнует тема прощания, расставания, и ненаписанные еще «Овсянки» с самого начала мне ведались трактатом обо всём самом важном, и вдруг я понял, что именно туда и нужно идти…. И с этого момента весь остальной рост повести стал уже вопросом моего времени и моей работоспособности. Быстро писать я начал со слов директора Нейского бумкомбината, вызвавшего Аиста утром к себе в кабинет: «Умерла моя жена Татьяна сегодня ночью», – после того как обрёл их.
– Почему вас волнует тема прощания? Что-то с этим связано в жизни?
– Ничего специального, не больше, чем у других. Например, я очень люблю народные песни, а в народной лирике всех народов мира – больше половины песен о расставании, о его преодолении, о невозможности преодолеть, об ожидании встречи наяву или в лучшем мире. Как расставание в физическом мире, когда все живы, так и любое другое – через смерть в том числе. Городочек Горбатов на Оке, где происходит кремация Татьяны, я сильно люблю, я там бывал и раньше. Я давно знаю и люблю Оку. Я думал сразу обо всём, когда вёл своих героев по трассе: и о физических законах, и о поэтических. В процессе Аист Сергеев всё более проявлялся как личность. Когда я уже был близок к завершению повести, Аист Сергеев превратился в писателя со своим письмом и языком, я этому очень обрадовался – тому, что его окончательно обрёл и всем сейчас подарю. И его отца обрёл и подарю Миру окончательно, мерянского поэта, писавшего на русском, публиковавшегося иногда в кологривской районной газете, давшего своему сыну имя Аист, со стихами, которые вмонтированы в повесть в конце… Кологрив – интереснейшее место, очень моё, я там поселил Весу Сергеева, это такая костромская-мерянская Шамбала, как сами местные говорят, там рядом в с. Шаблово родился чудесный великий художник Ефим Честняков, его ещё при жизни там чуть ли не за святого почитали: детей лечил и взрослых, учил, последним делился, хотя у него самого почти ничего не было, краски делал из разной глины с берегов реки Унжи, рисовал картины, ставил спектакли, писал сказки… В Шаблове сделали очень интересный дом-музей Честнякова, а в нескольких километрах в селе Илешево – кладбище с его могилой, туда люди приходят и даже землю с неё забирают. Люди приходят, прижимаются к могиле тем, что у них болит… И сам Ефим Васильевич завещал фельдшеру незадолго до смерти, чтобы люди и после его похорон к нему ходили и оставляли своё горе и свои боли здесь. В Кологриве я побывал после «Овсянок» и стал ездить туда каждый год – мне хотелось до него дотянуться давно, вот и Веса Сергеев раньше там поселился, чем Денис Осокин туда приехал, и в этом моя любовь к Кологриву, которая сильнее моей личной физики: и название красивейшее, кстати, редкое славянское в этих краях, и места интереснейшие, заповедные леса, где, как биологи говорят, никогда человек даже ничего не рубил – леса непроходимые, стволы неохватные, грибы в человеческий рост… По рассказам – я не видел, но охотно могу представить. Когда я хочу дотянуться до какого-то пространства, мне интересного, дорогого, я дотягиваюсь с помощью своей литературы, часто не выходя из комнаты, из-за письменного стола, ну разве что неподалёку пройтись, чтобы встряхнулись мысли. У меня много книг, где я дотягиваюсь до дорогих мне мест, не бывая там физически. Физически можно съездить и потом – уже в гости к своим любимым героям…
– Значит ли это, что вы создаёте всё-таки свой собственный образ места?
– Создаю, сильно, и влияю, да, но я не на ровном месте это создаю, я прислушиваюсь, я много работаю с картами, бумажными и электронными. Мне часто приятно просто с картой побыть, иногда я себя обнаруживал даже заснувшим под картой – так мило: просыпаешься, а тебя накрывает карта, например, Ямала со всеми своими реками, озёрами, океанским побережьем, тундрой! В одной книжке я об этом написал.
– Образы – который вы себе создаёте и тот, который видите, когда приезжаете в этот город, – совпадают у вас?
– И совпадают и отличаются. Но ни разу не было каких-то резких противоречий, разочарований. Чего-то оказывается больше в реальности физической, а что-то я уже привнёс сюда, построил – я это тоже вижу. Это такое взаимообогащение: в целом всё совпадает, а когда я приезжаю, получаю бонусами в подарок от физической реальности что-то ещё. А что-то она уже получила от меня: самый обычный мост через реку, который я с такой любовью живописал, населял сакральными событиями, заставлял героев с этого моста, например, бросать угощения для хозяина реки, духа местности, – я на него теперь всегда такими глазами буду смотреть и друзьям рассказываю, т. е. это мост такой навсегда для меня и для тех, кто любит мою литературу.



«Я вне берегов жизни не мыслю»
– А с Коломной у вас так же складывались отношения? Перед первой резиденцией вы здесь были?
– Был. Я сюда приехал первый раз в 1991 году на двухпалубном туристическом теплоходе «Вишера», с родителями и младшей сестрёнкой. Мы всей семьёй в июне тогда путешествовали по маршруту Казань–Москва–Казань по Оке, в начале навигации, когда вода высокая, двухпалубники ещё способны были пройти, подняться так высоко по Оке и Москве-реке. В конце 1990-х и в нулевые эти маршруты уже поисчезали. А у меня к рекам особенное отношение. Я сам хотел быть речником, собирался в Речной техникум, у меня родня весьма обширная по маминой линии – речники, и мужчины и женщины, я сам на больших реках вырос и живу: Волга, Кама, Казанка, Свияга, Вятка… Я всё это дико люблю! После техникума хотел поступать в город Горький, в Институт водного транспорта, единственный в наших краях. Но слишком проросли тогда и все мои другие любови, и в 8 классе я понял, что мне надо в университет на филфак или истфак, потому что мне нужны были языки и всё, чем я занимаюсь сейчас и всю взрослую жизнь. Но речную карьеру я взял с собой в свою литературу и как личность не могу жить без рек. В старших классах я начал писать, тихонько показывал друзьям, чувствовал: в художественной работе со словом заключены самые важные, самые родные для меня вещи на Белом Свете. И реки, и разное, что с ними связано, у меня есть в каждой книге.
– Вы себе отдавали отчёт, откуда такая любовь к рекам? Наследственность?
– А как их можно не любить, если на них живёшь и вырос? Если всё самое лучшее связано с реками и их берегами. Но даже если и без такой судьбы – реки не любить невозможно. Что тогда любить вообще?! Говорю про самого себя, конечно. Но я вне берегов жизни не мыслю.
– Некоторые вообще воды боятся, хотя живут на берегу моря…
– Да, в Казани и любом волжском городе-милионнике можно найти людей, которые не знают, где Волга находится или как к ней пройти, им это особо-то и не надо, они в дальних от берега районах родились, выучились, живут и работают, в центр выбираются редко, к Волге ещё реже или почти никогда. Я и Нижний Новгород первый раз увидел с палубы «Волго-Дона» – здоровенного грузового судна, где мой дядя был старшим помощником капитана в моём детстве. И много чего по Волге увидел впервые. И в Москву первый раз на нём пришел – по воде – на грузовом судне, в Северный речной порт, и очень горжусь этим. (И второй раз в Москву я прибыл на теплоходе – уже на туристическом и в Южный порт.) Дядя брал меня с собой. В Березниках, к примеру, они загрузятся технической солью – идут в Москву. Там разгрузятся, загрузятся ещё чем-то – идут в Карелию или в Астрахань. Первый раз я ходил далеко в многодневный путь по воде лет в 11–12. А недалеко – непрерывно с самого рождения. Я любил сидеть на носу «Волго-Дона» (а дядя мой сверху, из рубки, иногда для порядка говорил: «Денис, уходи уже оттуда, холодно, хватит сидеть!» – на всю реку!), в рубках я сидел на этих винтовых стульях чудесных, рядом с лоцманскими картами… Кстати, Волжский университет водного транспорта в Нижнем – для меня как личный храм. Я даже называю это место своей «Белой Альма Матер». Белой – в том смысле, что лучше, чем физика, и несбыточнее, ближе к искусству. Если у меня заканчиваются силы (а я бываю в Нижнем очень часто по разным поводам), у меня есть большое личное «зарядное устройство» – место между колоннами на входе в Речной университет. Могу просто прийти постоять, поулыбаться самому себе и пойти дальше. Личная таинственная психофизиология.
– Возвращаясь к Коломне…
– Мне было 13 лет в июне 1991, в августе 14 исполнилось. Родители мои тоже очень речные люди, родом с Камы, но я пошёл дальше них. И вот в июне 91-го я впервые здесь оказался. Коломна была остановкой нашего теплохода перед Москвой. Меня город очень впечатлил, исторический центр ещё во многом лежал в руинах, а я в полудетском возрасте обожал такое. Я помню, в Ново-Голутвине монастыре первые послушницы нитевидными руками глыбы известковые таскали, в ямах лазили, другие в руинах пели красиво-красиво… Мне это всё нравилось, развалины же нравятся детям, а я был очень впечатлительным. Я увидел старый-старый город с такой огромной судьбой, ещё и наружу изрядно вывернутой. Мы провели здесь часа четыре, и я уезжал с большой радостью, что познакомился с Коломной. И хотел бы вернуться. Потом в школе друзьям рассказывал, что это один их самых впечатливших меня городов на маршруте. И с возрастом всегда говорил, что Коломна – самый богатый и красивый город в Московской области. В общем, я знал, что Коломна есть. А потом мой друг Игорь Сорокин сказал мне в 2012 году: «В прекрасном городе Коломне открылась Арткоммуналка, там есть резиденция. Мне кажется, тебе бы понравилось и была бы такая взаимная польза. Попробуй, если хочешь, придумай проект, мы его рассмотрим». Я это сделал, хотя в 2012-м я был дико занят: мы только-только закончили «Небесных жён», писали сценарий к «Ангелам революции», ещё миллион всяких бытовых задач и событий… Несмотря на это я написал проект «Поворот Аиста». Мне было жалко Аиста: в 2006 я написал от его имени повесть «Овсянки», которая такой значимой получилась, так запомнилась не только мне, и мне хотелось, чтобы Аист написал ещё, но я для этого специально ничего не предпринимал, ждал. А здесь решил, чтобы Аист Сергеев весной (я и резиденцию попросил в апреле–мае) прибыл в Коломну. Был огромный паводок, но потихонечку уже начинало всё зеленеть, шёл Великий Пост, была поздняя Пасха, потом Радуница, которой заканчиваются «Снежные подорожники», – Аист уходит из Коломны на Радуницу… Я тогда много ездил в Москву: рядом с железнодорожным полотном сплошная вода, между зелёными-жёлтыми кустами и деревьями… И мы с Аистом думали, почему вот так вот с Коломной и её именем?


«Меня всю жизнь заботит Оживление»
– А почему вы решили на этот раз вернуться именно с Аистом в Коломну? Значение имени Коломны сыграло свою роль?
– По мерянской версии Аиста оно означает «смерти нет» (Аист пытался разобраться и так и не догадался до конца, ему подсказала вода, когда он в неё заходил, в чём там дело). Мне хотелось, чтобы продолжалась писаться литература Аиста и Весы, а они в Коломне люди не чужие уже. Это на уровне чувств и веры было решение. Если бы у меня была некая полуобязанность-полувозможность ежегодно приезжать сюда, я бы не только с Аистом приезжал, а и с разным другим. И Денису Осокину тоже есть чем здесь заняться. А пока в 2023 году по намеченной в 2013 году тропинке хотелось пойти дальше, чтобы это был не эпизод с «Подорожниками», а традиция – в Коломне создавать мерянскую литературу и смотреть отсюда по сторонам. Потому что каждый город – это такая уникальная площадка-лаборатория наблюдения над Миром, и Коломна – это очень роскошная, глубокая и высокая площадка, отсюда очень много что видно. И вот я написал новый проект, хотя мне опять было ни до чего нового – такие перегрузки у меня в текучке моей, в текущей работе. Я к таким вещам отношусь как к поворотам судьбы, событиям своей биографии, как и к выступлениям, скажем, когда меня куда-то зовут: нет сил, нет времени, но я думаю о том, что это судьба – и моя собственная, и тех, кто пересечётся со мной.
– А давайте о тайне имени Коломны. Вы не любите слово «игра», но ведь это всё-таки, наверное… фантазия?
– «Фантазию» тоже не люблю: не сами по себе эти слова и смыслы не люблю, конечно, но не считаю их своими рабочими. Мои рабочие слова: открыл, нашёл, создал… Здесь есть лингвистическая база: корень «колом / кулом» в современных финских языках почти везде связан со смертью. Например, в коми языке: олöм – жизнь, кулöм – смерть. В современном русском языке есть слова «околеть», «кулёма»… Кулӧма – это мертвец на языке коми, и шире – нечто неживое. Когда восточные славяне пришли и ходили по здешним лесам, в которых жили оставшиеся в летописях меря, мещера, мурома, чудь и предки современных народов мари, удмуртов, коми, – они видели на лесных полянах маленькие домики для умерших, где жили деревянно-тряпичные существа, в которых аборигены переселяли, упаковывали часть души умершего. У тех же коми было очень сложное построение души: одна часть души летает тетёркой, другая живёт в лесу в дереве, ещё часть – это дыхание, пар. И после смерти человека какая-то часть души возвращается, идёт на переплавку, а что-то остаётся здесь. И вот некую земную часть души помещали в это существо, напоминающее идола, которое сидело в этом домике такое спелёнутое, с предельно просто обозначенным лицом или даже без лица. И русские спрашивали: кто это? И местные отвечали: кулэма. Или говорили, уже подучив древнерусский, что это «наши бабушки-дедушки» или просто «наши, только кулёмы». Есть такая бородатая шутка: «кока кола» переводится с марийского как «тётя умерла». А ещё «кол» или «кал» – это рыба, и рыбы вполне себе пограничные существа между мирами, рыбник обязательно был на поминках и остаётся у многих финно-угров сейчас ритуальным блюдом перехода…
Меня же всю жизнь заботит Оживление – это базовое понятие моей литературы. Иногда я читаю лекции в литературных школах, и первая лекция посвящена именно Оживлению – это умение наиважнейшее, ради этого всё и делается, человек становится автором ради того, чтобы Оживлять. Например, многие специалисты разумно считают, что имя Коломны с корнем «колом» означает «кладбище». В прежнее время кладбище не означало страшноватое место, как сейчас – это было заповедное, храмовое место, где максимально открыта граница между мирами, чистое, священное место. Но Коломна как кладбище меня не устраивала всё равно, я ведь современный человек и пишу для современных людей, меня бы устроило нечто противоположное – отсутствие умирания. Поэтому Аист, который выучил на Том Свете мерянский язык (которого в физическом мире не существует, проверить правильность невозможно, но ему поверить я готов, мне его версия очень нравится), говорит, что «Коломна» это «Смерти Нет». «Колом» или «колем» – «смерть», а то, что после корня – это аффикс, означающий отсутствие признака! В агглютинативных языках словообразование именно такое. Например, на коми «кыв» – «язык», «кывтöм» – без языка, немой. В коми за отсутствие признака отвечает аффикс -тöм. А в мерянском – об этом поведал знающий Аист – аффиксы -мна/-мне или -на/-не. Но вот почему так первые жители назвали это место – он не знает, ведь даже самые старые меряне, которые бессмертны там, в реках, ему не сумели объяснить, забыли. Короче говоря, ему очень было по сердцу, что есть такой город современный, который называется Смерти Нет, и он пошёл специально сюда, чтобы пожить здесь, походить, попробовать разобраться, почему так называется. И вот он живёт, наблюдает за людьми, даже вмешивается чуть-чуть во взаимоотношения в одной семье и грустный-прегрустный на Радуницу уходит, потому что ему пора. Почему пора, мы не знаем. А тайну имени он не открыл. У него были только догадки, а подтверждений так и не нашлось. И вода ему шепнула, когда он её коснулся: «Ты почти всё правильно понял…» Вообще, для меня самое ужасное – когда человек погибает через воду, ведь вода – это сама жизнь, мы все любим воду, а уж я как люблю!… С детства моё самое страшное впечатление от Существования, когда кого-то вынимали из воды, это кажется настолько противоестественным, что я и сделал в «Овсянках» смерть от воды бессмертием: это настолько чудовищно, что можно закрыть только верой в то, что смерть от воды – это отсутствие смерти.
Я вот сейчас сказал на встрече в Коломне, что мои мерянские герои-авторы, видимо, ещё и уважают восточный календарь. Я это понял тоже в этот приезд. Я здесь впервые просчитал годы жизни земного пути Аиста и Весы Сергеевых. Аист родился в 1965, бессмертным стал в ноябре 2006. А Веса родился в 1937, прожил 64 года, из жизни ушёл в 2001, я его лишь чуточку перевёл в 21 век.
– Почему ненадолго? Не нравится наш век?
– Очень нравится! Я своё время очень люблю. Но ведь прошлое – не такое уж и прошлое. Можно все эти границы посносить и представить себе, что время идёт, как тянутся лучи солнца… Я сегодняшний день очень люблю, и это самое сложное – работать с сегодняшним днём.
…И вот Аист подумал, что у первых людей, которые давали здесь имена всему, дети тут утонули, а родители, когда их вынули, сказали, что этого быть не может, смерти нет – поэтому такое название города. Доказательств этому нет. И при обратном заходе в воду, при уходе из Коломны, ему вода шепнула: «Ты же почти догадался, только слово “чуть” потерял». Крошечное такое, смешное, милое, милейшее, простейшее слово «чуть» – а разница способна всё изменить: дети у первых людей здесь чуть не утонули, их просто вовремя вытащили. И вот эта последняя фраза мне очень дорога, для меня это было таким художественным открытием здесь. Я ходил вместе с Аистом, думал, догадывался. Так и с «Овсянками» было – я прошёл весь траурный путь моих героев, уставал ужасно, кровь моя выливалась в эти строчки… Я чувствовал, что я как кусочек сахара в кипятке растворяюсь, хотя я понимал, что я делаю не тёмную вещь: я никогда не стал бы делать что-либо, что затемняло бы мир, меняло его к худшему, отравляло воду и откачивало воздух. Я понимал, что повесть печальная, дымная-дымная, но при этом для меня это трактат о чистоте, это мой такой личный «Дао дэ цзин», потому что в «Овсянках» ответы на все основные вопросы, которые меня волнуют, все самые любимые мои расклады и решения. И я тихо думал потом, что когда-нибудь Аист Сергеев будет писать ещё. И почему бы не в Коломне? – на очень сильной и памятливой мерянской русской земле.


«Как понятие, ока – это бесконечная любовь и нежность, когда рождается скучание без мучений»
– Насколько разнится ваша задумка с тем, что получилось на выходе в этот раз?
– Я ничего заранее сюда не привозил, никаких идей. Ведь для меня резиденция – это не игра, не гастроли, а Судьба, я уже говорил. Я знал, что Аист будет писать прозу свою лирическую, поэтическую, а Веса будет писать стихи. И больше я ничего не знал. Тема Снегурочки возникла где-то в середине моей резиденции. Очень трудно превращать в слова, в объяснение, потому что это такое вылепливание: ты, допустим, идёшь по снегу, по мартовским лужам, зябко, потом всё растаяло, снова замёрзло, ты идёшь с мокрыми ногами глянуть на реки ещё такие совершенно зимние… а потом весенние всё больше и больше… ты живёшь, выступаешь (я в этот заезд много выступал: и я всегда волнуюсь, готовлюсь, потом долго волнуюсь-рефлексирую – это тоже довольно много сил забирает)… И вот я ходил, думал… А ещё надо сказать, что я всегда подолгу умываюсь утром, мне, чтобы перейти от ночи в новый день, необходимо очень много вылить на себя воды и по-всякому себя перетряхнуть – деятельность эта скучная, механическая, и я пускаю в это время в ванной комнате с телефона какие-то песенки, и Ютуб знает мои вкусы и сам предлагает миксы. А у меня музыкальные вкусы самые разнообразные, я всеяден, лишь бы это было по посланию хорошо и талантливо – от самой что ни на есть эстрады на 2–3 аккордах до рока, классики, оперных арий и, конечно же, любимой народной музыки в масштабах Мира – и наоборот. И вот я заметил, что почти каждое утро в ванной мне звучит «Третья песня Леля» из дорогой мне с детства оперы «Снегурочка» – и это тоже было мной считано. Плюс время года – март. Месяц года – это всегда такая плавильная лаборатория. Каждый месяц – лаборатория своя. Даже отдельные недели одного и того же месяца. Я за это очень люблю нашу природу – за то, что все 12 месяцев разные, и ещё начало, конец и середина каждого отличаются. И вот как-то из всего одновременно, и всё плотнее и плотнее, стало складываться понимание, о чём будет писать Аист, что он будет говорить о Снегурочке, признается ей в любви и вдобавок расскажет кое-что об Оке как о реке по имени Нескучание. У него, бессмертного, больше возможностей, чем у меня как у Дениса Осокина: Аист может почти ничего не объяснять, а просто говорить: он знает, что это так. И со Снегурочкой он может встречаться и вместе ночевать в Коломне в день её рождения, а я не уверен, что могу…
– Но это ведь тоже прощание со Снегурочкой?
– Прощание. Но не навсегда. Она исчезает по мере таяния снега и высвобождения рек ото льда, видимо, с ней невозможно встретиться до следующего первого снега… Но кто же их, бессмертных, знает? Да и потом – можно ведь отъехать туда, где снег лежит дольше… Неважно… Прощание, которое одновременно Встреча, причём Вечная – вот об этом «Снегурочка» Аиста Сергеева, по-мерянски «Луманзе». А ещё там ключевая фраза «Счастье – это когда ничего не происходит». Мое личное представление о человеческом счастье на 2023 год практически полностью умещается в эту фразу. Вот.
– Слились две ваши любимые темы – вода и прощание: прощание со Снегурочкой, превратившейся в воду…
– Да-да-да, в пар, и невозможность быть вместе всегда, тема нескучания, ведь разве пар – это плохо? Вот и скучать по человеку – это не только больно, но и очень хорошо. И лично я теперь за второе, за «Снегурочку» Аиста. Аист рассказал, что Ока – это не только слово, обозначающее просто Реку, как финское «йоки», но ещё и понятие, которое можно писать с маленькой буквы – «ока». На примере своих чувств к Снегурочке он рассказал, что ока как понятие, как состояние – это бесконечная любовь и нежность, когда рождается Нескучание, или скучание без мучений, когда желание быть вместе физически при невозможности быть вместе превращается в очень хорошие физические движения и поступки. Например, ты принимаешь решение объехать все окские города и в каждом попытаться написать что-нибудь хорошее или подарить просто по пуговице городу или реке, а потом поехать куда-то дальше, зимовать или без зимовки, что-нибудь сделать абсурдно-светлое, спеть песню, например, дальнему зимнему лесу или полазить по незнакомой церкви в селе с именем, означающем Снег, – это и называется ока. И это всё мои открытия в этот приезд. Я «Луманзе / Снегурочку» обожаю, она для меня самая актуальная, и она нравится людям, хоть и очень короткая, я это успел заметить; и это только на первый взгляд может ошибочно показаться, что Аист сегодня не столько поэт, сколько лингвист и краевед – ничего подобного, просто ему всё меньше хочется говорить, и говорить только о самом главном, а по самому главному слов не бывает много… И Аист и я – мы всегда в общем-то были немногословны…
Меня всегда заботит уровень послания художника: ради чего всё создаётся, говорится, пишется? Можно с лупой проанализировать содержание «Снегурочки», но это не главное. Это как пузырёк с эфирным маслом, такой сложный микс. В целом это такое нежное, светлое, грустное, помогающее жить, а не мешающее, окрыляющее Всё. Если попытаться пересказать то, что написано, получается, что в Коломне в конце марта Аист Сергеев встретился со Снегурочкой, заранее договорившись увидеться здесь на Снегурочкин день рождения, она приехала на станцию Коломна в темноте с сумкой с домашней одеждой и тапочками, они переночевали где-то здесь, а на следующий день он её проводил обратно на электричку, и где-то по пути она исчезла окончательно, а сам Аист пока что остался, но тоже ненадолго, поэтому давайте побудем вместе ещё несколько страниц, так редко ведь видимся, а Снегурочка-то уехала в самом начале этого рассказа о ней… Это такое Светлое Превращение, Отвоёвывание Всего Самого Лучшего, Вылепливание Мира и себя в нём одновременно. Мне очень хорошо на душе, что родилась эта вещь. И я, может быть, к Снегурочке буду ещё возвращаться, может быть, я только начал о ней говорить… А может быть, и всё уже сказал… А ещё я не знал, узнал во время работы над «Снегурочкой» в Коломне, что Александру Николаевичу Островскому в этом году 200 лет. И пьеса Островского «Снегурочка» – самая дивная у него, на мой вкус, и единственная в стихах, и я её цитировал в эпиграфе, как и письмо автора оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова своей жене: «Кто не любит моей “Снегурочки”, тот не понимает моих сочинений вообще и не понимает меня».

«Пуговица – один из моих близких друзей»
– Кстати, почему подарить реке именно пуговицу?
– Это один из моих любимых символов-образов-предметов в предметном мире. Мне пуговица кажется совершенным предметом, совершенным существом. Она похожа на всё самое хорошее, начиная от Солнца и колеса, – всё, что помогало и помогает жить. Пуговица была изобретена, чтобы удерживать одежду. А одежда нужна только живым, мёртвым она не нужна. Поэтому пуговицы в моём понимании – это чудесные и верные Пограничники Жизни. Были они каменные, деревянные, костяные, металлические, потом появилась синтетика, что тоже прекрасно, потому что это значит из нефти.
– Кровь природы?..
– Да! Кровь драконов я её называю, Веса Сергеев тоже говорит, что это драконья кровь и что он носит её в своей канистре. Позже пошёл преразличный дизайн пуговиц – они стали такие красивые… К пуговицам часто рефлекторное почтение: их как хлеб не выбрасывают, срезают, хранят. Многим свойственно даже срезать пуговицы с одежды умершего: одежда выбрасывается или отдаётся куда-то, а пуговицы оставляются. Так или иначе, коробка с пуговицами – это богатство, особенно для ребёнка. Я помню, у мамы своей просил коробку с пуговицами, играл с ней. Малышу хочется целовать, кусать пуговицу, во рту держать, в кулаке, в кармане, просто на неё любоваться… Да и взрослым иногда хочется того же… Во взрослой жизни у меня была подставка под горячее из грубой ткани с нашитыми разными пуговицами. Это дико красиво! Особенно когда они подплавятся чуть-чуть – такие размытые становятся… И я свои личные приметы разрабатывал: с детства стал считать встреченную на дороге пуговицу добрым знаком. Видишь на улице пуговицу – это такая тебе улыбка и знак того, что всё будет хорошо, некое обещание успеха или отсутствия беды, пожелание удачи. Только не надо её с собой забирать, чтобы остальным идущим, даже если они об этом не знают и так совершенно не думают, пуговица тоже подсвечивала, работала для всех. У нас с режиссёром Алексеем Федорченко есть первый совместный фильм «Шошо» по моему рассказу «Новые ботинки», снятый в 2006. «Шошо» – это «весна» по-марийски. В рассказе одним апрельским днём сильно пожилой человек из марийского села поехал на рынок в райцентр покупать себе новые ботинки. А вся деревня, зная об этом, ужасно волнуется за него, хотя непонятно, чего ради. Кто-то молится в священной роще, кто-то забирает у жены только что приготовленную уху, идёт на трассу, по которой уехал герой, и выливает уху, угощая дорогу, чтобы она была милостива и вернула уехавшего. Кто-то бежит в райцентр и разбрасывает пуговицы… Я и стихи свои часто называю пуговичной поэзией – такой мой личный термин, говорю о том, что мне нравятся стихи простые, как пуговицы, и при этом бездонные, как пуговицы, и смешные, как пуговицы. В общем, пуговица – один из моих близких и дорогих друзей с детства и близких мне художественных образов.

«Это бумажный флот, который сильнее железного»
– Что для вас искусство?
– Это Правда-Преправда, которая способна быть сильнее, важнее, нежнее, нужнее и стоит гораздо дороже правды физического мира. Потому что в физической реальности всё происходит по законам физики и только по ним. А в искусстве, и только там, человек максимально свободен, там возможно всё.
– Это для вас способ изменять мир?
– Изменять мир к лучшему, поддерживать его, добавлять то, чего не хватает, преодолевать расставания. В моём последнем бумажном сборнике есть рассказ «Ночной караул», по которому в Государственном театре кукол в Йошкар-Оле мой друг режиссёр Алексей Ямаев поставил спектакль, за который мы, авторы, получили Госпремию Республики Марий Эл, а наш художник-постановщик Сергей Таныгин – «Золотую Маску». Там герой приезжает в заброшенную марийскую деревню, в которой родилась его мама, мамы уже нет… Этот приезд был порывом, хотя герой понимал, что только намучается и ничего из этого хорошего не выйдет. И вдруг ночью под окна заброшенного дома посреди пустой деревни приходит загадочная полуневидимая ночная стража, которая охраняет эту деревню от пожаров, как это заведено в марийских деревнях и до сих пор. Они забирают его с собой на дежурство, вкладывают в него марийский язык, которого герой не знает, хоть мама его и марийка. Вместе они ходят-бродят, изредка разговаривают, ничего особенного не происходит, и с рассветом караульщики исчезают. А из героя уходит, улетучивается марийский язык. Ночной Караул, видимо, был Духами Судьбы. И в самом конце рассказа, перед прощанием с нами, герой говорит, что ему вдруг очень захотелось сделать бумажный самолётик (среди караульщиков был девичий голос, который остальные называли Таней, который говорил, что любит бумажные самолётики, и герой думает: вдруг это и была моя невеста по судьбе?..). Он делает его из куска сырых обоев, сорванного со стены пустого маминого дома, и идёт в сторону трассы, чтобы уехать на попутке домой в город, идёт по октябрьским лужам, пускает самолётик, идёт за ним, поднимает, пускает снова:
«Я шёл и пускал самолётик впереди себя. Поднимал – пускал снова. Поднимал – пускал снова. Иногда он летел вбок. Иногда планировал в лужи – и я к нему бежал – чтоб не размок совсем. И мне кроме этого ничего не хотелось делать больше. И никто мне не нужен был. Никто кроме нас – дороги между Маскародо и Колокудо в месяц и час, когда на ней никого не встретишь, самолётика из обоев и меня».
И вот тут для меня наиважнейший момент насчёт искусства: для меня именно такой вот бумажный флот – и воздушный, и речной, и наземный – это тот самый флот, с помощью которого можно добраться абсолютно до всего, до чего в физической реальности не доедешь ни за деньги, ни на каких скоростях на обычных железных кораблях, самолётах, поездах: до умерших родителей, до несбывшихся надежд, до неслучившихся поворотов или поворотов, случившихся не туда… Нигде кроме как в искусстве это Преодоление, это Победа над чем угодно невозможны. Это вечная победа человека над всем, что осложняет ему жизнь, да и что попросту обрывает её. И это не фантазия, не игра, не выдумка, потому что это сверхправда, суперправда, правда-преправда. Она существует безусловно. В это можно только поверить. В этом вопросе вера и искусство происходят из одного корня. Просто вера – она для тебя одного, а искусство сразу для всех. Искусство – это как вечная Пасха, Пасха круглый год. Как Серафим Саровский всегда всех приветствовал словами «Христос воскресе!» – так и художник, даже если он неверующий человек, который не затемняет, а высветляет Мир, меняет Мир к лучшему, убеждает человека всякий раз в какой-то победе, даже если событийно в рассказе или в стихотворении это непрерывный проигрыш и прощание. Но победа – то, ради чего человек это вообще написал и поделился написанным с людьми. Да, это бумажный флот, который сильнее железного. Через него, через свою литературу, например, я могу создавать, скажем, мерянскую литературу, оживлять что угодно, раскрывать и дарить значение пуговиц, рассыпая их по Миру… Все художники так работают: никто не скажет, что хочет принести Миру вред…
– Может быть, некоторые просто не задумываются… А вообще может художник принести вред миру?
– Как личность – да, а как художник… вряд ли, потому что только его умение оживлять – это залог того, что он художник.
– Любое творение прекрасно?
– Может быть, не прекрасно, прекрасно – это вопрос таланта, а талантом человек не заведует, он его обнаруживает в себе и охраняет, бережёт, выучивается расходовать, как полезные ископаемые, на радость себе и Миру – но не вредно, не отравляюще, это никогда не есть распространение яда и выбивание почвы из-под ног. Если это искусство.
– Даже современное эпатажное искусство?
– Искусство ли это… можно рассуждать об этом, глядя на конкретные случаи. Для меня искусство там, где Оживление, не обязательно в прямом смысле: то, что улучшает, а не ухудшает, соединяет, а не разрушает, если даже все герои разлучились, но на выходе это воспринимается как высокое, очень важное и нежное гуманистическое послание, даже если оно проще пуговицы. И человеку в результате легче жить, а не тяжелее, у него прибывает, а не минусуется сил и покоя и желания жить. И если нет Оживления в произведении, я могу усомниться, что это искусство.

«Хорошая литература – это огромная помощь»
– Должно ли искусство быть социальным?
– Слово «должно» вообще к искусству не имеет касательства. С одной стороны. С другой стороны, искусство вполне может быть социальным. Оно точно не должно быть асоциальным. Социальным в таком прикладном смысле, допустим, наводить какие-то лупы и объективы на какие-то стороны жизни, подробнее изучать художественными методами – это очень даже неплохо может быть. Русская классика вот, например.
– Своё искусство вы таковым считаете?
– Я много и непрерывно работаю с национальной темой, темой Пестроты Мира, как я это называю: все культуры такие разные-преразные, но при этом человек в своей короткой жизни во все времена хочет одного и того же. В каменном веке царапали камнем по скале, а мы сейчас со смартфонами – вот и вся разница, а задачи и вопросы, мучающие нас, вообще не изменились. Поэтому мы прекрасно понимаем древнюю литературу и фольклор, нам кажется, что там герои ведут себя как наши соседи по подъезду…
– Только иногда очень велеречивы!
– Да-да, точно! В эпосе особенно. Но их мотивация понятна абсолютно и абсолютно применима и сегодня. Если художник создаёт что-то о социуме, если у него получается не фальшиво – это прекрасно. Фальшиво – всегда во вред. Если кто-то искусственно пытается повысить градус социальной значимости своих произведений, если его заботит не искусство, а что угодно (тиражи собственных книг, например)… мне это настолько чуждо, что я не способен об этом и рассуждать. Если у человека так устроены глаза и душа, настроены на общественное, если это получается по-настоящему хорошо и нужно, если от искусства будет помощь физике и автор будет казаться нам умным и счастливым… Мы ведь тоже видим: автор счастливый художник или какой-то несчастный, измученный, кривит душой. Это не касается его как личности: он может бедствовать и часто бедствует, но при этом бывает рад своим творениям, благодарен Силам, которые его так создали, что он способен вот так воспринимать Мир… Мне кажется, так со всеми, даже в самой распечальной лирике, например, Есенина, чувствуется авторская гордость, радость автора, создавшего эти стихи, непобедимая радость несмотря ни на что и порой вопреки всему. Поэтому я за любое искусство, если оно не фальшивое, будь оно хоть про политику, хоть про что. Запретных тем для искусства нет.
Моя литература тоже социальна, хотя я об общественном явно не рассуждаю. Те же «Овсянки» – там вообще много рассуждений о современных русских, а это вполне себе социально. Наилиричнейшая лирика тоже социальна, потому что она очень сильно помогает человеку жить, независимо от рода занятия, степени образования. Хорошая литература – это огромная помощь, поэтому люди очень сильно доверяют поэзии, это как-то у людей в крови, неистребимо из человеческой психики и культуры. Даже если человек почти не читает, а смотрит фильмы и играет в компьютерные игры, генетически трепетное отношение к литературе у него сохраняется.
Фото: Александр Уваров